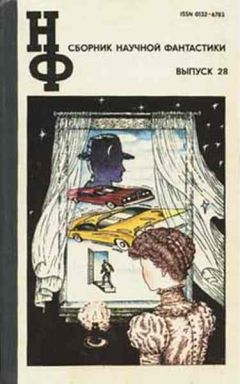И мужчины уже не скрывают слез.
Тщетно бьет Роланд мечом о скалы. Сокрушается камень, но не зубрится Дюрандаль. И, обессилев, вручает рыцарь свою перчатку архангелу Гавриилу, уносящему его душу.
Певец умолк. Молчала восхищенная зала. Наконец поднялся Жиль де Фор:
- Отдохни, Жоффруа, отдохни и подкрепи себя пищей. Потом ты окончишь свою песнь, ибо нам хочется знать, как принял великий Карл известие о смерти любимого племянника, как отомстил он арабам, как осудил изменника Ганелона и что сталось с прекрасной Альдой - нареченной невестой Роланда. Но чтобы ты знал, сколь любим мы твое искусство, вот тебе награда. Прими ее сейчас, не будем дожидаться конца твоего рассказа - я уверен, он будет не хуже начала. - Жиль де Фор нагнул голову и снял с себя тяжелую золотую цепь.
Жоффруа опустился на колени и сорвал с плеча обезьянку, чтобы та не мешала барону.
- Спасибо, сьер рыцарь, мы с Матильдой старались.
Барон расплылся в улыбке, оживившей его тонкие бледные губы, и, надев цепь на шею певцу, слегка подтолкнул его к подоспевшему дворецкому, который повел Жоффруа вдоль длинного стола. Однако высокородные гости, успевшие осушить слезы, а заодно и кубки, как бы невзначай расставляли локти, так что бродяге-актеру не сразу нашлось место. Наконец он пристроился в самом конце стола возле юного пажа графа де Круа. Пьер с интересом рассматривал жонглера из своей ниши: талант поразительный. Уж он-то знал в этом толк.
Между тем пир разгорелся с новой силой. Женщины, по наблюдениям Пьера, не отставали от мужчин, уписывая пироги с начинкой из жаворонков, зайчат на деревянных спицах, нежных карпов, запеченных в дубовых листьях, жареную свинину с репой, запивая все это тягучим красным вином. Наконец слуги обнесли всех медными тазами с водой для омовения рук. И потекла беседа.
- Не удивительно, что подвиги Роланда находят отзвук в сердцах рыцарей: он им образец и доблести, и долга, и верности. Но что в рассказе нашего жонглера могло привлечь прекраснейшую даму? Ведь женская душа устроена не в пример грубым мужским натурам - туго натянутой струной откликается она на человеческие муки, а искусный Жоффруа так живо изобразил страдания искалеченных и умирающих бойцов, что это не могло не причинить вам боли, благороднейшая Алисия, - сказал де Тардье.
- Вы правы, Морис, - отвечала Алисия, - я сострадала Роланду и Оливье, но в этом и наслаждение от искусства, подаренного нам Жоффруа. Через страдание мы постигаем блаженство.
Граф де Круа поднял пьяную голову:
- А я, благородные сьеры, об одном сожалею: не волен я кинуться в страшную сечу и спасти храбрейшего из храбрых... Объясните мне, гордые рыцари, почему не могу я быть вместе с Роландом? Где тот конь, что отвезет меня в Ронсевальское ущелье? - В глазах де Круа заблестели слезы.
- Нет таких коней, граф, - сказал де Тардье, - судьба же Роланда прекрасна и возвышенна.
- Судьба, судьба, - пробормотал де Круа, - я не верю в нее и не желаю ей подчиняться.
- Не кощунствуй! - сурово произнес аббат Бийон. - Господь справедливо распорядился за нас, нам же остались деяния к вящей его славе. Ни прошлое, ни будущее не в нашей власти.
- А вы, святой отец, - заговорил Жиль де Фор с некоторой нотой брезгливости, - что вы нашли в словах Жоффруа?
Аббат вскинул голову и с достоинством ответил:
- Что могу я черпать в этой славной песне, кроме благочестия и веры в силу господа, вложившего Дюрандаль в Роландову десницу, дабы тот поразил язычников. И, укрепившись в вере, я возвращаюсь из тех героических дней в наше бренное настоящее, чтобы - увы! - убедиться, что даже цвет рыцарства начинает забывать о святом своем предназначении, о беспощадности к слугам дьявола...
- Что вы имеете в виду, отец Бийон? - мрачно перебил его Жиль де Фор.
- Не настаивайте на ответе, ибо я слишком чту законы гостеприимства, чтобы ответить на ваш вопрос без криводушия и лукавства, и слишком сильна во мне вера...
- Укрепленная фигляром Жоффруа?
- ...и слишком сильна во мне вера, - не замечая издевательской реплики, продолжал Бийон, - чтобы укрыть от вас свои мысли.
- Так откройте их, святой отец, откройте их! Тем более что я заранее знаю, о ком пойдет речь.
- Да, о ней, о гнусной колдунье, о сатанинской змее, свившей гнездо в сердце рыцаря, некогда благочестивого и безупречного.
- Радуйся, монах, она уже в подземелье!
- Это ты должен ликовать, что одержал победу над бесом искушения.
- А я ликую! Я ликую, ха-ха-ха. Видит бог, как я весел. - Барон сгреб со стола серебряный кубок, мгновенно наполненный верным Ожье, и осушил его залпом.
Лицо Бийона, багрово-красное от вина и гнева, поворачивалось, излучая в зал самодовольство. Взгляд его споткнулся о Пьера, пробежал чуть дальше и вернулся. В следующий миг аббат нагнулся к Жилю де Фору и забормотал что-то ему на ухо. Хозяин замка повернулся в сторону очага, глаза его впились в Пьера. Вздрогнула и остановилась картина. Лысина дворецкого, склоненная к белому пятну на фоне резной высокой спинки. Остраненная улыбка Мориса. Изумленные брови Алисии. Туповатое любопытство в пьяных глазах графа де Круа.
- Эй, взять его! - Жиль де Фор тянул палец к очагу, а правая рука с кубком снова вознеслась к услужливому ковшу кравчего.
Пьер увидел вырезанный тенью острый кадык под серебряным донцем.
- К Урсуле его! Ей там скучно. Ха-ха-ха!
Два жарких потных тела стиснули его между собой, потащили к стене. Метнулась рука Алисии - и опустилась, перехваченная Морисом де Тардье. За креслом хозяина скорчилась запятой худенькая фигурка Ожье. Стало совсем тихо.
- А теперь послушаем конец твоей истории, Жоффруа, - сказал барон, отвернувшись от Пьера и опустив руку.
Что произошло дальше с Марсилием и Ганелоном, Пьер не услышал. Его вывели через вдруг обнаружившуюся боковую дверь, а потом стащили по узкой лестнице из дюжины крутых каменных ступеней в подобие каменного мешка, где вместо дверей была скользящая вверх-вниз решетка из деревянных брусьев, в окон не было вовсе. При тусклом свете факела, воткнутого в железное кольцо, Пьер увидал на полу кучу соломы и ворох тряпья. Решетка рухнула, и топот стражей замер наверху.
Пьер постоял с минуту и направился было к соломе, как вдруг куча тряпья шевельнулась, поднялась над полом и обернулась скрюченной старухой, с лицом, почти совершенно закрытым прядями нечесаных длинных волос. Она отвела космы со слезящихся глаз, с едва заметным удивлением глянула на Пьера и снова опустилась на пол, сцепив грязные руки и выставив острые, прикрытые бурой мешковиной колени.
Пьер тоже сел, скосив на старуху привыкшие к полутьме глаза. Тени, пробегая по ее лицу, оживляли его, сообщая выразительность бровям и губам. Нарисованная игрой факела мимика оборачивалась живым движением, откликом собеседника, ведущего откровенный и доверительный рассказ. Рассказ этот звучал тепло и человечно под многими метрами земли и камня, хотя голос был глух и бесцветен.