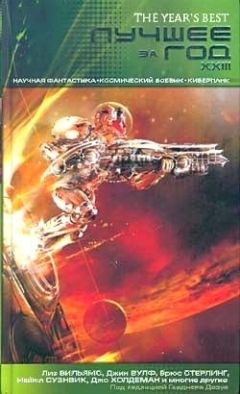— Ничего подобного. Я теперь могу так говорить, потому что знаю: в итоге мне удалось создать кое-что по-настоящему стоящее. Но когда это случилось, оно совершенно не входило в мои планы.
— Вы имеете в виду это ваше голубое?
— Это голубое, — подтвердил он, кивая. — Оно началось совершенно случайно, неверный мазок на почти завершенном полотне. Мазок бледного аквамарина, голубой на почти черном фоне. Эффект был подобен удару электрическим током. Казалось, я обнаружил прямой путь к неким пронзительным, изначальным воспоминаниям, в царство пережитого опыта, где этот цвет был самой важной составляющей моего мира.
— И что это были за воспоминания?
— Я не знал. Все, что я знал, — этот цвет говорит со мной, как будто я всю жизнь только и ждал, пока он проявится, чтобы высвободить его, — он на минуту задумался. — В голубом всегда что-то было. Тысячу лет назад Ив Кляйн[4] сказал, что это сама эссенция цвета, цвет, стоящий всех остальных цветов. Один человек провел всю свою жизнь в поисках определенного оттенка голубого цвета, который, как он помнил, видел когда-то в детстве. Он уже отчаялся отыскать его, решил, что ему, должно быть, привиделся тот оттенок, что его, должно быть, вовсе не существует в природе. Но потом в один прекрасный день он обнаружил его. Это был цвет жука из Музея естественной истории. И тот человек рыдал от счастья.
— Что же такое голубой Займы? — спросила я. — Цвет какого-то жука?
— Нет, — ответил он. — Это не цвет жука. Но я должен был узнать ответ, и не важно, к чему это привело бы. Я должен был узнать, почему этот цвет так много для меня значит, почему он проходит через все мое творчество.
— Вы позволили ему проходить через все ваше творчество, — сказала я.
— У меня не было выбора. По мере того как голубой делался все более насыщенным, доминирующим, я чувствовал, что приближаюсь к ответу. Я чувствовал, что, если мне удастся погрузиться в этот цвет, я узнаю все, что так хочу узнать. Я пойму себя как художника.
— И? У вас получилось?
— Я понял себя, — сказал Займа. — Но это оказалось не тем, чего я ожидал.
— И что же вы узнали?
Займа долго думал, прежде чем ответить на мой вопрос. Мы медленно прогуливались, я чуть позади, он, крадущейся пружинистой походкой, впереди. Начало холодать, и я уже жалела, что не предусмотрела этого и не захватила пальто. Я подумала, не попросить ли какое-нибудь пальто у Займы, но решила не отвлекать его мысли от того, куда они устремились. Держать рот на замке всегда было самой сложной частью моей работы.
— Мы с вами говорили о погрешности воспоминаний, — сказал он.
— Да.
— Мои собственные воспоминания были неполными. С тех пор как были встроены имплантаты, я помнил все, но только за последние три сотни лет. Я знал, что сам я гораздо старше, но из своей жизни до имплантатов я помнил только отрывки, разрозненные кусочки, не вполне понимая, как их сложить вместе, — он замедлил ход и развернулся ко мне, тускнеющий оранжевый свет заката залил его щеку. — Я знал, что мне необходимо покопаться в прошлом, если я хочу понять суть Голубого периода Займы.
— И как далеко назад вы зашли?
— Это было похоже на археологические раскопки, — сказал он. — Я дошел по следам своих воспоминаний до самого раннего реального события, случившегося вскоре после установки имплантатов. Оно привело меня в Харьков-Восемь, в мир Бухты Гарлин, что в девятнадцати тысячах световых лет отсюда. Все, что я помнил, — имя одного человека, с которым был там знаком, его звали Кобарго.
Имя «Кобарго» ничего мне не говорило, но даже без ИП я кое-что знала о Бухте Гарлин. Это была часть Галактики, включающая в себя шестьсот обитаемых миров, раздираемых между тремя основными экономическими системами. В Бухте Гарлин обычные межзвездные законы не действовали. Это была территория криминальных элементов.
— Харьков-Восемь специализировался на продукте определенного сорта, — продолжал Займа. — Целая планета трудилась, занимаясь предоставлением медицинских услуг, недоступных в других местах. Запрещенные кибернетические модификации и все в этом духе.
— Это там вы?.. — я не стала договаривать предложение.
— Это там я стал таким, какой есть, — сказал Займа. — Конечно же, я произвел еще некоторые изменения в себе уже после Харькова-Восемь, повысил переносимость агрессивной среды, улучшил свои сенсорные способности, но основы того, кем я стал, были заложены под хирургическим ножом в клинике Кобарго.
— Значит, до прибытия на Харьков-Восемь вы были нормальным человеком? — спросила я.
— Вот здесь и начались трудности, — сказал Займа, осторожно пробираясь дальше по тропинке. — По возвращении я, естественно, пытался отыскать Кобарго. С его помощью, мне казалось, я сумею отыскать смысл в обрывках воспоминаний, хранящихся у меня в голове. Но Кобарго не было, он пропал где-то в Бухте. Клиника осталась, но теперь ею заправлял его внук.
— Держу пари, он не рвался общаться с вами.
— Точно, пришлось его убедить. По счастью, у меня имелись средства. Небольшой подкуп, небольшое насилие, — он слегка улыбнулся при этих словах. — В итоге он согласился открыть архивы клиники и просмотреть записи своего деда, касающиеся моего пребывания у них.
Мы завернули за угол. И море, и небо сделались одинаково серыми, от голубого не осталось и следа.
— Что же произошло?
— Из записей следовало, что я никогда и не был человеком, — сказал Займа. Он немного помолчал, прежде чем продолжать, чтобы не осталось никаких сомнений по поводу только что сказанного. — Никакого Займы не существовало до моего поступления в клинику.
Что бы я ни отдала за какое-нибудь записывающее устройство или, если это невозможно, хотя бы за старый добрый блокнот с ручкой! Я нахмурилась, как будто это могло заставить мою память работать хоть немного лучше.
— Так кто же вы?
— Машина, — сказал он. — Сложный робот, самоуправляющийся искусственный интеллект. Мне было уже несколько сотен лет, когда я прибыл на Харьков-Восемь, и я был независимым на вполне законных основаниях.
— Нет, — сказала я, качая головой. — Вы человек с частями машины, но не машина.
— Клинические записи не допускали двойного толкования. Я поступил к ним роботом. Роботом андроидной формы, естественно, но тем не менее просто машиной. Меня демонтировали, и мои основополагающие познавательные функции были помещены в искусственно выращенное биологическое тело, — он пальцем постучал по оловянного цвета виску. — Здесь полным-полно органики и куча кибернетических механизмов. Невозможно понять, где начинается одно и заканчивается другое. Еще сложнее определить, кто здесь слуга, а кто господин.