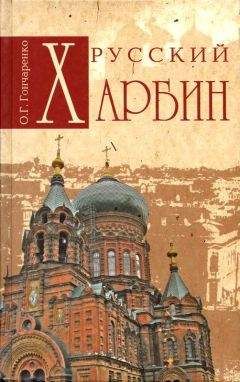И вот — маленькая комнатка, где-то в Риме, куда меньше той, патрицианской… но в ней — все родные, и год — свой, чего еще желать?
Но, увы, уже через час меня потянуло обратно — к Колизею. И какая же нестерпимая досада охватила меня. Четыреста пятьдесят второй год все-таки впился мне в сердце. Агасфер! Я знаю твою боль, неседеющий старик!
— Брось кукситься. — Отец хлопал меня по лопаткам. — Подумаешь, раздели… Не дома же, в России.
Но что я мог с собой поделать! Ниса, твои кости давно истлели… но сейчас, именно в эти минуты ты думаешь, что я просто сбежал и бросил тебя погребать мёртвого стратега. И вы, господин префект, мир вашему праху, что вы теперь думаете?.. Вот поистине Агасферово проклятье!
Я вздохнул. Как видно, очень тяжело.
— Что? Стрелять там пришлось в своих, в русских? — Отец сел рядышком.
— Так… в небо, — отмахнулся я. — Бог миловал.
— Тогда я отказываюсь понимать, — рассердился отец.
«Я — дома», — приказал я себе.
— Папа… скажи мне, неужто так сильно от меня разит?
Отец взглянул из-под бровей и чуть-чуть подобрел.
— Чувствительно, надо признать… Ну, еще пару раз вымоешься… Тут и попариться-то по-человечески негде.
— Чем разит?
— Чем? Да вроде как загнанным мерином, Николя. Потому-то и про лихача спрашивал.
— Я и есть загнанный мерин, — развёл я руками…
На другой день, вскоре пополудни я остановился против Колизея и простоял с четверть часа, страшась подходить…
За сутки, растянувшиеся на полторы тысячелетия, щель стала шире, гораздо шире, и я с ужасом заглянул в эту маленькую пропасть…
В сумерках я вернулся со спичками — и чиркнул.
Шкатулка блеснула в глубине россыпью звёздочек! Она как будто сама заползла глубже, подальше от чужих глаз… или кто-то позаботился о ней? Префект отказался честным человеком, настоящим гражданином настоящего, ушедшего Рима… и, что удивительней всего, — тайным оптимистом.
Минули еще сутки, микроскопические в сравнении с пятнадцатью веками, но для меня несравненно более долгие, чем целое тысячелетие.
Я придумал использовать каминную кочергу в качестве сначала кирки, а потом — рычага и еще четверть часа мучился самым тяжким за всё тысячелетие приступом бессилия.
Наконец, в бездне хрустнуло, шкатулка выскочила из пятого века — и золотые монеты чеканки Феодосия, базилевса Восточной Римской Империи, раскатились по Риму века двадцатого.
Я собрал их все и пошел прочь, прихватив с собой и покорёженную серебряную шкатулку, которая и в таком состоянии могла в наши дни составить — вот каламбур! — целое состояние.
По дороге домой я думал о своих стариках и просил у них прощения. «Нет, я еще не дома, я — там. И Колизей волочится за мной, как ядро, прикованное цепью к ноге каторжника… Но подождите немного — неделю, месяц, никак не тысячелетие… Это должно кончиться, отпустить».
И через неделю, убедившись, что гуннский дух окончательно отбит и римские бездомные собаки не шарахаются от меня, поджав хвосты, я дал объявление в вечерней газете:
«Для г-жи Т-ской Екатерины Глебовны имеются важные сведения из России.
Она может осведомиться в любой из грядущих четвергов с шести до девяти пополудни по адресу…»
Ждать пришлось еще неделю.
Однажды в четверг, когда сердце, по обыкновению, уже начинало выпрыгивать из груди, а именно за пару минут до пяти пополудни, под нашими окнами возникло и замерло, продолжая как-то неуловимо скользить сквозь пространство, длинное чёрное авто.
С шофёрского места вышел человек под идеальным белым кругом фуражки и, механически обойдя эту огромную чёрную пулю, открыл заднюю дверцу.
Красивая женщина, еще не дожившая до бальзаковского возраста, вся в тёмном, возникла вовне… и, подняв взгляд, чуть рассеянно посмотрела на наши окна.
Я затаил дух и подумал: «Ныне отпущаещи…»
И с величайшим напряжением улыбнулся маме.
— Мама, ты помнишь, я говорил о возможном визите в четверг? Гость, как видно, пожаловал… Только не хлопочи. Чашки кофе довольно.
Колокольчик в прихожей брякнул, и я, сдерживая себя, неторопливо двинулся к двери.
— Вы господин Арапов?
— К вашим услугам. — Я поклонился.
Озноб пересилило жаром.
…За ней стоял, направляя в меня вольфрамовый взгляд, высокий и молодой человек в белой шофёрской фуражке.
— Марко, подожди внизу, — сказала она по-итальянски, не глядя на него.
И грациозно вступила в прихожую.
На столе, рядом с моей чашкой и неподалёку от сахарницы, лежал пакет, очень похожий на тот, что передал мне в руки полковник Чагин.
Она пристально посмотрела на пакет. Тонкие черты лица, серые глаза — и немного эмигрантской бледности… Только губы чуть-чуть, по-южному, пухлы и ласковый пушок над верхней губой. Остальное же — грациозный холод, изящество недоверия… Трудно было бы спрашивать ее о нужде и обстоятельствах… и эта чёрная сумочка, дочка роскошного чёрного авто, скользящего внизу сквозь пространство…
— Я вас внимательно слушаю, Николай Аристархович.
Вдруг я подумал, старше она меня или нет. И усмехнулся… о чем сильно пожалел. Потом пожалею еще сильней.
— Видите ли, Екатерина Глебовна, мой долг — исполнить… — От волнения чуть не выпалил разом: «последнюю волю». — Исполнить поручение Аристарха Ивановича Чагина.
Улыбка Екатерины Глебовны раскололась.
— Он… где? — спросила она, вытягиваясь в струнку.
Я тоже вытянулся, вздохнул поглубже, подумал: «Так-то лучше…»
— Екатерина Глебовна, я — печальный вестник. Аристарх Иванович Чагин ушёл из жизни на моих глазах. В Манчжурии.
Она побледнела, закрыла глаза и шепнула:
— Так далеко…
Потом я долго смотрел на поверхность кофейной тьмы, что была абсолютно гладка и недвижна. Когда я очнулся, то увидел, что лицо Екатерины Глебовны светло, и смотрит она в окно, на Рим. Потом очнулась и она.
— Извините, — бескровно улыбнулась она. — Вы его хорошо знали?
— Всего несколько дней… но самых горьких дней нашей жизни.
— Аристарх был прекрасным человеком, — сказала она, словно опять прося у меня извинения.
— Екатерина Глебовна. — Я положил руку на пакет и почувствовал себя уверенней. — Полковник перед смертью поручил мне передать вам…
— Что это? — перебила она меня и с испугом отстранилась.
Ив эту минуту я совершил самую тяжкую ошибку.
— Видите ли, это — двадцать очень древних и очень золотых ценных монет. Пусть вас не удивляет такая странная коллекция…