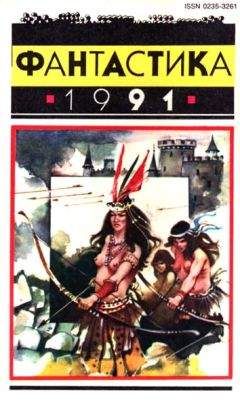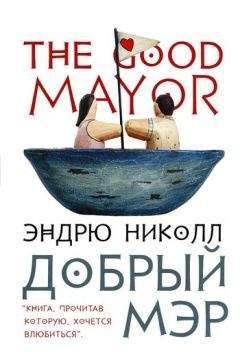Внезапно проснувшийся в Холмове классовый инстинкт гнал его все дальше от люксов, баров и музыкальных салонов для богатых. В зеркалах он мельком видел свое белое и перекошенное отчаянной решимостью лицо. Уже где-то близко мощно стучали машины, до звона содрогая переборки. Крутясь на закоулках переходов и трапов, безотчетно бежал на этот стук Ростислав.
Он рванул на себя одну из выкрашенных белой краской дверей со строгой надписью «Посторонним вход запрещен» и оказался на узком балкончике с решетчатым полом. Машинное нутро парохода являло собой картину ада. Слабо освещенная железная коробка была наполнена змеиным шипением пара, грохотом поршней и шатунов, ревом пламени раскаленных топок. В неистовом жару и угольной пыли метались полуголые люди, и багровые отсветы пламени лизали их блестящие от пота тела.
Увидев постороннего, к нему двинулся один из кочегаров.
— Эй, сюда не положено! — крикнул он. — Ступайте себе!
Холмов спустился на несколько ступенек.
— Товарищ, — напряг он голос, — товарищ, мне нужна помощь…
Кочегар смотрел недоверчиво, даже угрожающе на одетого в отлично пошитую тонкосуконную тужурку студента. Сукнецо и вензеля императорского института относили пришельца скорее к белоподкладочникам — сынкам богатеев, чем к студентам-революционерам.
— Ишь, товарищ… — Кочегар оскалился в недоброй улыбке. Мускулы каменными шарами перекатывались под лоснящейся, вымазанной копотью и угольной пылью кожей.
Холмову отступать было некуда, а доказывать родство с пролетарскими предками — некогда. Открываясь, он еще настойчивей сказал:
— Товарищ, меня будут искать. Наверное, уже ищут. Двое из охранки, третий — американец, сукин сын…
И показал замкнутое на запястье стальное кольцо наручника.
Это произвело впечатление.
— Ладно, пойдем к угольным ямам, — все еще настороженно но уже с оттенком сочувствия заявил кочегар, — потолкуем с ребятами и будем решать.
Моряки спрятали Холмова в кормовом шкиперском ящике. Прошло несколько однообразных дней. Свободные от вахты машинисты и кочегары из посвященных приносили в тесноватое помещение горячий чай, хлеб, миску борща. Передавали и пароходные новости. Переход от острых ощущений к спокойному самосозерцанию был приятен; вынужденное заточение Ростислав переносил философски. Часто возникал перед ним образ Ольги — будто вспыхивал в темном углу овал ее лица, возникали глаза и твердые коралловые губы. Губы, которые умели быть и ласковыми, и горячими… Но странно — на облик его Ольги тут же накладывались черты и скользящий через вуаль тревожно-требовательный взгляд другой Ольги — Вольской. И в сознании Ростислава два образа все чаще сливались в один. Он мечтал будто о своем третьем тысячелетии, а видел только петербургское: опрокинутые в небо чаши Исаакия и золотую змейку петропавловского шпиля в дымчатой невской воде — пляшущую, скользящую в вечность… И сам себе больше казался Линдбергом, чем Холмовым. Да и как могло быть иначе? Единственная спасательная шлюпка — прибор Шулуна. А его нет — он превращен в обломки, стало быть, о возврате в свои пространственно-временные координаты не приходилось и думать.
Холмов-Линдберг за эти дни свыкся с Атлантикой, отделенной только слоем железа толщиной в палец. Океана он не видел, зато по ни на минуту не прекращающимся ударам чувствовал его силу и буйство. Свыкся он и с бухтами канатов и с цепями, лежащими здесь ржавыми кучами.
Свыкся даже с крысятами, прибегавшими полюбопытствовать при свете мизерной лампочки на необычного пассажира. Спал Холмов в гамаке и крыс не боялся, укрывался старым матросским бушлатом. Тетради Линдберга он бережно держал при себе, а вот прибор не уберег: что-то в приборе сильно понравилось крысам, и они изгрызли его дотла.
Браслет наручника с левой руки в первый же день спилил ему напильником могучий кочегар Иван, тот самый, которого Ростислав назвал товарищем. Он и оказался верным товарищем. Вот только конспирацию не соблюдал: палуба сильно гремела под его ногами.
Как-то в очередной раз Иван пришел с другим матросом тревожный.
Говорил по-ярославски, на «о».
— Понимаешь, Ростислав, какая петрушка: наш человек радист рассказал: передавал он радиограмму про тебя — мол, едет террорист на судне с бомбами. Полиция у них настырная, наверняка в порту перевернет «Николая» от клотика до киля. Найдут. Мы тут меж собой посоветовались и решили: бежать надо тебе.
— Куда ж бежать? До Нью-Йорка идем без остановок. Да и как убежишь — вплавь далеко, а шлюпку не спустишь, это целая история, да и не даст никто.
Тут заговорил другой матрос, тряхнув черным чубом:
— Э, не журись, казак. Мы придумали кое-что. Подрассчитали — смываться тебе надо под вечер и поближе к берегу. Притормозить придется пароходик, да это уже наша печаль: уголь пойдет плохой или сломается что.
— И придумывать не над о, — угрюмо вставил кочегар, — в паропроводах свищ на свище. Надрываемся, держа давление в котлах, понимаешь.
— Вот, казак, слыхал? В темноте с верхней палубы стащим по-тихому махонькую лодочку — то ли пробковую, то ли каучуковую надувалочку спасательную; значит, ход стопорим, будто оказия какая… Это чтобы тебя не захлестнуло или, не дай бог, под винты не затянуло…
— Пора на вахту нам, — поднялся Иван, — так ты понял, Ростислав? К вечеру будь готов.
— Хорошо, мне лишь бы до берега добраться, уйти от этого черта Макферсона подальше.
Чернявый матрос дружески положил руку на плечо Холмова:
— Ничего, обойдется. Поплывешь в Америку сизым селезнем.
К вечеру Холмов был готов. То есть надел поверх тужурки просторный бушлат. Пароход сбавил ход. Атлантика теперь не так яростно штурмовала железное тело парохода.
За Холмовым пришел чернявый, потащил за руку полутемными коридорами и вывел к небольшой площадке, на которой Иван заканчивал надувать резиновую лодку.
Прибежал третий матрос:
— Скорее, механик ругается на чем свет стоит, требует хода и штрафами грозится.
— А пошел он, кровосос, — сказал Иван, скидывая в лодку весла, баклагу с водой и сверток с сухарями.
Чернявый дал Холмову три луковицы:
— Лучок дает бодрость и обостряет зрение. Ну, казак, в добрый час…
В откинутую створку грузового борта Холмов увидел наконец близкое черное зеркало воды и мечущиеся в нем яркие звезды. Лодка тихо шлепнулась об воду. Держась за трос, он спустился в легкое судно и тут же почувствовал, что лодка отпущена и удаляется от борта. Машины на «Николае» не грохотали, слабый аварийный свет лился из иллюминаторов и капитанской рубки. Но через минуту свет вспыхнул ослепительно, под кормой вздулся бурун. У Холмова от свежего воздуха голова шла кругом, но он работал веслами как мог. По плоским валам скакал луч прожектора, приближаясь к лодке. Беглец бросился на деревянную решетку, уложенную поверх дна. Лодка провалилась в промежуток между волнами, луч скользнул дальше. А через минуту набравший полный ход корабль ушел уже далеко.