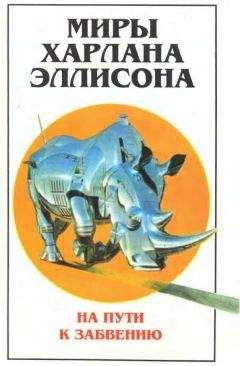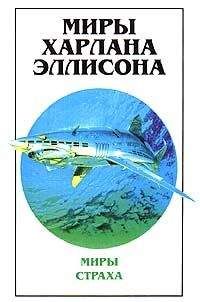Тогда он завопил. Во все горло. Птица смерила его насмешливым взглядом и взмыла ввысь. Прометей, услышав его голос, поднял голову и взглянул перед собой.
Могарт бежал к Прометею. Ему хотелось что-нибудь сказать, но он не знал что.
Первым заговорил Прометей. На неведомом Могарту языке.
— Я не понимаю… тебя…
Прикованный на мгновение прикрыл глаза, потом забормотал что-то себе под нос, словно припоминая молитву, и наконец произнес:
— Твои слова. Правильны.
— Да, да, теперь я понимаю… Ты?..
Человек с трудом улыбнулся — измученной, болезненной улыбкой облегчения и страсти.
— Значит, Справедливость, наконец, прислала тебя. Мое время истекло. Я очень тебе благодарен. Норман Могарт не понимал, о чем идет речь.
— Сейчас, — произнес прикованный, сосредоточенно прикрыв глаза. Пора. Прикоснись ко мне.
Могарт засомневался. Потом, повинуясь призыву темнокожего человека, протянул руку и прикоснулся к каштановой плоти.
На какое-то мгновение все смешалось, а когда он смог снова сфокусировать зрение, на площадке никого не было, а сам Могарт был прикован к тому месту, где только что находился Прометен. Он был один. Совершенно один. Прикованный вместо Прометея, он сам стал принесшим огонь.
В ту Ночь, после того как несколько раз прилетал Йоатль, ему приснился первый сон. Сон, живущий на огне.
И вот что ему приснилось:
Они были любовниками. Из их любви возникло сострадание к существам этого примитивного мира. Они принесли огонь познания, вопреки закону Справедливости вмешались в нормальный процесс развития другого мира. И их приговорили. Одного — быть прикованным к скале, там, где никогда не ступит нога человека. Другого — к публичной казни.
Но они были бессмертными, и значит, им предстояла вечная жизнь и вечные муки. От них исходила странная энергия, поэтому Йоатль, наклевавшись, пламенел всеми цветами радуги.
Но сейчас их срок подошел к концу.
И Справедливость выбрала двух других. Один сменялся прямо сейчас: Норман Могарт встал на место человека, которого люди звали Прометеем. А другой… он был чужестранцем, таким же, как Прометей, и позволил дикарям этого мира совершить лишний шаг на пути мудрости. В то же самое время их разделяли миллионы лет, ибо время не имело значения для этих чужестранцев.
А любовники теперь были свободны. Они могут вернуться и начать все сначала, ибо уже заплатили свою цену.
Норман Могарт лежал на скале, закрыв глаза и размышляя о двух мужчинах, которые любили друг друга и всех существ этого мира. Он думал о них, в то время как они сами возвращались в другое Место без названия.
Он думал о себе, и ему было больно, но совсем несчастным он себя не чувствовал. Сколько это продлится, он не представлял, но это был не самый худший способ скоротать вечность.
Он думал о человеке, предназначенном Справедливостью на место другого, и знал, что, когда снова придет апрель, он получит свой терновый венец.
Потому что так рождаются легенды в умах дикарей даже в Месте без названия.
Товарняк медленно тащился из Канзаса. В моем нутряном бурдюке не осталось почти ни капли влаги. И не было ни травы, ни воды, чтобы наполнить его. Когда товарняк добрался до окраинных маневровых путей станции, уже стемнело. Я перевалился через край открытого вагона, спрыгнул на ходу, пробежал футов двадцать, поскользнулся, упал на четвереньки и перекувырнулся. Встав, я увидел, что в ладони врезались крупинки белого известняка; я выковырял их, хотя было очень больно.
Затем посмотрел по сторонам, пытаясь определить свое местонахождение по отношению к городу, и, заметив вдали шпиль Первой баптистской, пошел через пути в нужном направлении. Навстречу мне как бешеный рванул станционный легавый. Я почернел. Он остановился и принялся скрести в затылке, оглядываясь вокруг.
Через сорок минут я добрался до центра города, пересек его и пошел по направлению к Малому городу — негритянскому району.
Я нашел вход в котельную церкви Святой Троицы Христа Спасителя и, улыбаясь, пробрался внутрь. За двенадцать лет они так и не удосужились починить замок и задвижку. Ступеньки были еле видны в темноте подвала, но я без колебаний шел вперед так ребенок находит дорогу к своей спальне, когда в доме погашен свет.
Сверху то и дело раздавался приглушенный гул голосов — из ризницы, из покойницкой, из зала.
Там лежал Джедедия Паркман. Восьмидесяти двух лет, усопший, усталый, дошедший до конца бесконечной дороги, по которой он брел, спотыкаясь, черный, бедный, гордый, беспомощный. Нет, не беспомощный.
Я поднялся из подвала по лестнице, положил свою белую руку на рассохшееся дерево двери и представил себе всю ту черную массу, что давит на дверь с другой стороны. Джед прыснул бы со смеху.
Сквозь щель у косяка виднелась только противоположная стена; я тихонько приоткрыл дверь. Зал был пуст. Все перешли уже в ризницу. Сейчас начнется заупокойная служба. Пастор расскажет прихожанам о старом Джеде каким хорошим человеком он был, какое доброе было у него сердце, как он подбирал бродячих котят и бездомных ребят. Как много народу обязано ему жизнью. Джед только фыркнул бы.
Я успел вовремя. А как другие бродячие коты?
Я закрыл за собой подвальную дверь и скользнул вдоль стены к кладовке — маленькой комнатке рядом с ризницей. Мгновение — и я внутри. Выключил в кладовке свет, на случай если придется почернеть, а затем подкрался к двери напротив. Приоткрыл ее и посмотрел в щелочку на ризницу.
После взрыва бомбы церковь пришла в полную негодность. Слухи об этом распространились аж до Чикаго: семеро убитых, дьякон Уилки ослеп — ему попали в глаза осколки стекла. Службу приспособились проводить в ризнице.
Там рядами стояли складные стулья. На них сидело население Малого города. Два ряда вокруг стен. Одно-два белых лица, как у меня. Я узнал и кое-кого из бродячих котят. Двенадцать лет прошло: вид у них был вполне преуспевающий. Но они не забыли.
Я смотрел и подсчитывал черных. Сто восемнадцать. Несколько дней назад, когда я был в Канзасе, их было сто девятнадцать. Теперь сто девятнадцатый чернокожий житель негритянского района Данвилла лежал, окруженный цветами, в гробу, установленном на козлах в центре ризницы.
Привет, старый Джед.
Двенадцать лет — подумать только!
Боже, до чего ты спокоен. Ни ухмылки, ни смешочка, Джед. Ты умер, Я знаю.
Он лежал, скрестив на груди руки. Большие заскорузлые лапищи-грабли сложены мозолями вниз.
Ногти поблескивают в свете свечей. Матерь Божья, ему сделали маникюр!.. Старый Джед просто взвыл бы: сотворить такое с человеком, который всю жизнь грыз ногти почти до мяса!