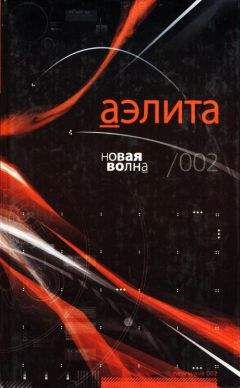— Можно… — мне показалось, что мой голос прозвучал глухо. Я прокашлялся.
— Вот видите, Людочка, — старик улыбнулся мне.
— Вам зеленый? — спросила проводница. «Где же энтузиазм, милая?» — хотелось спросить мне, но я сдержался. Мною не раз замечено, что проводники фирменных поездов — легко ранимые и несчастные люди. Зачем лишний раз обижать.
— Черный, пожалуйста.
— А дамы? — спросил старик теток.
— А можно кофе? — спросила тетка в шерстяном свитере.
— Две гривны стоит, — уточнила проводница.
— Тогда два, — сказала вторая тетка, одетая в спортивный костюм.
Проводница кивнула и выплыла из купе.
Андрей Николаевич присел на полку рядом со мной. Произошло классическое размежевание людей в купе по половому признаку. Поезда вообще предполагают определенное разделение людей. Люди всегда как-то сортируют друг друга. Поэтому крики французских коммунаров «Равенство!» для меня всегда звучали как издевательство. Но если в большом мире рождение человека все-таки содержит в себе скромные зачатки «одинаковости», которые только по прошествии жизни исчезают сначала за детскими ростками индивидуальности, а потом за взрослыми заборами эгоизма, то в поездах люди разделены первоначально. Сразу по приходе в мир поезда они приобретают статус и ранг. И существуют здесь в рамках, заранее определенных билетом. Сама география тут создана для неравенства. Люди здесь разделены вагонами, купе. Жители мягких вагонов вообще живут в одиночестве и несколько отстранены от других людей стоимостью билета.
Старик некоторое время сидел молча. Тетки грузно вздыхали по поводу того, что одной из них придется спать на верхней полке. Я молчал и делал вид, что читаю книгу. Мне-то понятно, что уступлю я им свое нижнее место. Все равно ведь, где спать, но так сладостно чувство мести. Даже такое мелочное. Пусть помучаются. Твой мобильник по-прежнему молчал. Мне становилось неуютно. Мои впечатления от появления «Андрея Николаевича» постепенно блекли. И хотя меня по-прежнему интересовало его появление, но любопытство мое медленно засыпало. Поезд убаюкивал меня. Жизнь медленно скатывалась в еще одну командировку, когда вдруг…
Проводница принесла чай и кофе, получила положенную мзду, спросила старика — не желает ли он чего, и, получив в ответ «нет», исчезла. Дремота купе растворилась в запахе кофе. Книга моя была закрыта и отложена в сторону. Стаканы были разобраны. Воцарилось чайное говорливое настроение. Молчание рассыпалось.
— Вот видите, товарищ, чай — благоприятствует. Один глоточек — и коммунизм. Ненадолго, правда, но все-таки. А чего это я все «товарищ», «товарищ». Меня зовут Андрей Николаевич, а вас? — начал старик.
Тетки почему-то смутились, но представились.
— Дмитрий, — представился я.
— А что это у вас, Дима, книжка такая толстая? С таким названием антисоветским.
Я растерялся.
— Почему антисоветским?
— Чему нас учит диалектический подход? — старик поднял указательный палец. — Чему? Он нас учит, что человечество неизбежно движется к победе коммунизма. А чему учит ваша история? Чему? А? Ложные, насквозь буржуазно-мещанские высказывания философов, пропитанных ненавистью к пролетариату? Что такое философия с точки зрения марксистско-ленинского учения? А? Это прежде всего научное мировоззрение, а не размазывание соплей в поисках смысла жизни. Поэтому история философии как предмет не только не полезна, но и вредна, потому что тиражирует антисоветские взгляды.
Я испугался. Милый старичок превратился в фанатика революции. Я сам антикоммунист и на последних выборах голосовал за нынешнего президента только потому, что не хотел, чтобы победил кандидат от коммунистов. Но к старикам, продолжающим после всех лет независимости верить в коммунистическую идею, отношусь с симпатией и нежной жалостью. Бедные старики. Правда, когда я встречаюсь с этими воинственными фанатиками, готовыми в свои семьдесят лет ломать и строить, — пугаюсь. Я все-таки мягкий человек.
Андрей Николаевич внимательно посмотрел на меня и спросил:
— Испугались?
— Да нет.
— Да ладно, — он усмехнулся. — Вижу, что испугались. Вот и вся ваша философия. Испугались старика, — он рассмеялся.
Смех его мне вдруг показался некрасивым, скрипучим. Тетки и те поежились. Шерстяная резко встала и ушла. Вторая, та, которая спортивная, уставилась в окно.
— Это шучу я так. Вы, товарищ Дима, пугливы. Как и все молодые. Так боитесь старости. Особенно сумасшедших стариков. Простите, товарищ, за розыгрыш, — старик посмотрел на меня с какой-то грустью.
— Ничего. Вы меня действительно напугали. Я не люблю споры о политике. Глупые они. Все останутся при своем мнении.
— А как же истина, которая в спорах родиться-то должна?
— Она там умрет. Погибнет. От невозможности найти выход.
— Ну а споры тогда зачем нужны? Зачем люди спорят?
Теперь улыбнулся я.
— Чтобы укрепиться в своем мнении. Еще раз доказать себе, что ты прав. И только…
— Да-а-а! — Старик даже откинулся немного в сторону. — Вы, молодые, меня всегда удивляете.
— Неужели вам так тяжело вспомнить собственную молодость? — вдруг подала голос тетка. Ее голос мне показался приятным. Полным, живым, без писклявости, без жирного акцента провинциальности и интеллектуальной убогости. Обыкновенный голос.
— Да, все тяжелее…
Не знаю, шутил старик или говорил серьезно, но я на всякий случай улыбнулся. Чуть-чуть, одними губами, на мгновенье.
Внезапно, как и начался, разговор затих. Старик сидел молча. Тетка в спортивном костюме смотрела в окно и пила свой кофе. Шерстяная пришла, достала из кулька книгу в мягком переплете и настолько цветастой обложке, что пояснять содержание было не нужно — достаточно было взглянуть на нее. Книгу она читала нервно. Иногда читая одну страницу по нескольку раз, а иногда перелистывая целый десяток. Я молчал. Мне бы хотелось продолжить разговор со стариком, но я не решался начать его первым. Книга моя так и осталась лежать на столе.
Мне тяжело объяснить, чем старик меня обаял. Человеческое обаяние — странная вещь. Оно может быть костром, на который смотрят часами, с трудом побеждая в себе желание потрогать его руками. Оно может быть медной брошкой с эмалевым рисунком, которую так хочется лизнуть, чтобы почувствовать вкус карамельки. А бывает обаяние ледяного узора на стекле. Это обаяние морозного утра, когда смотришь на стекло часами, следишь до изнеможения за каждой чертой и каждым изломом, придумывая себе целые миры…
Старик мне казался единственным живым в нашем купе. В поездах люди всегда приобретают какой-то налет нездешности и кажутся оттого нереальными. Они будто и живы, но почему-то остро ощущаешь их призрачность. Кажется, что можно пройти сквозь них не потревожив. А старик казался настолько пластически четким, настолько телесным, что мне даже захотелось его потрогать. И от меня, и от других пассажиров, и от проводников — от всех нас разило мертвецкой призрачностью. Эта нереальность наша, лишь иногда, словно разложившийся кусок плоти, падала с нас, обнажая наше существование в поезде жалостливым шуршанием пакетиков, скупыми фразами, тяжелым храпом. Мы были в этом мире: оставляли следы, стучали дверьми, шаркали ногами около туалета, но были всего лишь привидениями, которые исчезнут завтра, на рассвете. Старик же был живым. По-настоящему. Он излучал вещественность, реальность. Эта вещественность притягивала, к ней хотелось прижаться.