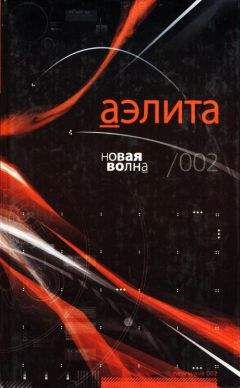— Но это же ощущение. И только. Зачем каждое ощущение объяснять? Разве оно требует объяснения? Мы просто ощущаем. И все. Если все ощущения пристально рассматривать — мы превратимся в аналитиков-паралитиков.
Поезд тронулся. Шум вокзала утих, исчез в нарастающем стуке колес.
— О. Я сейчас к Володе подойду.
Старик встал, поправил френч и вышел. Я опять набрал твой номер. Робот опять повторил, что ты где-то там и по-прежнему недосягаема. Я подумал, что разговор глуп и не имеет смысла. Что мы пытаемся сказать друг другу? Смотреть — это еще не значит видеть, видеть — это еще не знать, знать — это совсем не то же самое, что объяснить. Что мы, я и старик, пытаемся выдумать? Смотрим мы по сторонам или нет, мир есть. То, что мне кажется, что поезд — это самостоятельный мир, — это только мое больное воображение. А что там на самом деле…
Когда старик пришел, я рассказал ему о своих мыслях.
— Как вам сказать, Дмитрий. Вы, конечно, правы. Просто грусть меня пробирает. Грусть. Я так долго живу, и в этой жизни мне встречалось так много попутчиков. Людей, с которыми я жил в поезде или мгновенье, или сутки. Для многих, почти всех, поезд был только еще одним предметом мира, еще одной его вещью. Для некоторых, таких были единицы, он был чем-то особенным. Не миром — мирком, другим временем, другой частью. Вы не оригинальны в своем взгляде. Но ни у кого из них не возникало желания исследовать этот мир. В них не было духа авантюризма, не было животного любопытства исследователя. Было только пошлое словоохотливое умничанье, как у нас с вами.
— Разве, находясь в поезде, мы его не исследуем? Я часто по командировкам, например, и немного изучил его вагоны, составы.
— Чтобы познать какой-то мир, в этом мире надо жить, — возразил мне старик.
Зашла проводница. Принесла бутылку водки и две стопочки и, пожелав приятного аппетита, ушла.
Пару минут мы со стариком раскладывали наш ужин. Действовали мы на удивление слаженно. В ограниченном пространстве купе мы двигались, не мешая друг другу. Ни разу не прикоснувшись, не дотронувшись даже руками, которые иногда были почти рядом. Старик сел на этот раз напротив меня. Первая стопка ледяной водки пошла хорошо. Курица была вкусной. Еда из фаст-фуда (вернее было бы сказать — из импортированных к нам забегаловок) красива, но по вкусу безнадежна. Выпив по второй, мы продолжили разговор.
— Жизнь может быть исследована, только если ты в ней. Проходя рядом, мимо — жизнь не узнаешь, — он посмотрел на меня с какой-то обреченностью. — Только в ней. Вы знаете, Дима, я несколько раз хотел открыться людям, смотрящим на поезд как на мир. Да, они не искали объяснения своим взглядам, довольствовались ощущением. И мне на секунду казалось, что достаточно предъявить себя как доказательство, и они станут теми исследователями, о которых мне иногда мечталось. Но эти мысли не доживали даже до утра. Утром я смотрел, как они быстро собирали свои вещи, как радостно покидали поезд, и мне становилось понятно, что это не те люди, которые могут и должны быть открывателями этого мира.
— Я не такой?
Он улыбнулся.
— Точно такой же. Просто я устал знать. Один… разливайте!
Мне захотелось поверить, что этот старик — седой, немного нервный, с хитринкой во взгляде, в нелепом поношенном френче и блестящих сапогах — вручит мне сейчас откровение, если не Бога, то хотя бы демона. Хотелось верить, что он не очередной прилипчивый сумасшедший, а учитель, пророк, разгадавший тайны бытия и выбравший меня, как достойного знать эти тайны. Я был готов поверить, что этот вечер подарит мне нечто сокровенное и ранее не познанное. Хотелось верить в волшебство, как ребенку хочется верить в маленьких гномов, подростку — в принцессу, а юноше — в счастье.
Я разлил, и мы выпили.
— Как вы думаете, сколько мне лет? — спросил меня Андрей Николаевич.
— Лет шестьдесят — семьдесят, — ответил, не задумываясь, я.
Он посмотрел на меня.
— Я родился в тысяча восемьсот девяносто третьем году. Я не буду вам подробно рассказывать биографию, как потом говорили, выходца из среды разночинцев. Биографию гимназиста, студента, инженера, «вонючего интеллигента», специалиста, зэка, ссыльного, ополченца, опять инженера и даже коммуниста. Она скучна и обычна. Это в молодости кажется, что ты уникален, потом приходит понимание собственной серости. Жил как многие. Пережил страшные годы Гражданской, голод, нэп, любовь, коллективизацию, арест, сибирский холод, войну. Я выжил случайно. Такие, как я, обычно погибали в те годы. Мне повезло. Пусть это откровение покажется глупым и ненужным. Я не был честным тружеником, образчиком несгибаемой воли, идеалом моральной стойкости. И предавал я, как все в то время, и доносы из камеры, как все, подписывал. Все как все. Это не оправдание — это жизнь. И женщину я любил, которая, наверное, не стоила того. Женщина как женщина, в меру верная, в меру благоразумная, в меру подлая. Человек как человек. После ареста она от меня отказалась и тоже что-то подписала. Но поверьте, я даже не обиделся ни капли. Чтобы понять, надо жить тогда. Любить, правда, перестал. Только дочку вспоминал часто. Ей два года было, когда меня… Я себя похоронил тогда, но выпустили. Просто привезли в Сибирь и выгрузили в тайгу, вместе с раскулаченными. Ошиблись. Я к семье не возвращался потом до самой войны. А потом зашел, когда часть моя через город их проходила. Дочке одиннадцать лет было. Она не узнала меня. Но жена бывшая узнала — испугалась. Сказала, что похоронила меня давно, что у дочки новый отец. Жизнь. Дочке сказали, что я ее еще маленькую помню, на руках качал, в общем: старый друг матери. — Тут старик улыбнулся зло.
Я молчал. Меня не трогала его жизнь, мне не было его жалко. Я просто слушал.
— Я потом часто приезжал к ним. После войны поселился недалеко. И раз пять в год на поезде к ним ездил. Всего четыре часа, помню, ехать было. А в пятьдесят первом дочка погибла. Тоже жизнь. Я на похороны приехал на поезде. И уехал обратно на нем же. Навсегда.
— Навсегда? Как?
— А вот так: ехал на нем и ехал. Менял поезда. Рассудок у меня помрачился. — Он посмотрел на меня. Злости во взгляде не было, только грусть. — Я, честно говоря, мало что помню из тех лет. Ездил в «общих», в милицию попадал — помню. Но как в сумасшедшей дом не попал — не помню. Но однажды пришел в себя. Вы не поверите: проснулся накрытый газетой. А дата газеты — 17 июля 1964 года. Почти тринадцать лет прошло. Я сейчас думаю, что это поезд вылечил меня. Когда я слился с ним, вжился в него, он то ли вернул мне рассудок, то ли дал мне новый. Я так и остался жить в поезде.
— А как же вы жили? — недоверчиво спросил я.