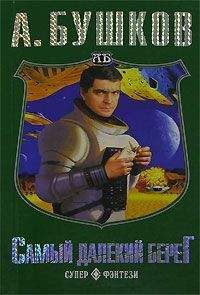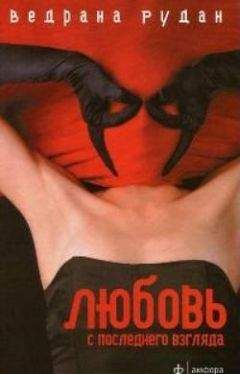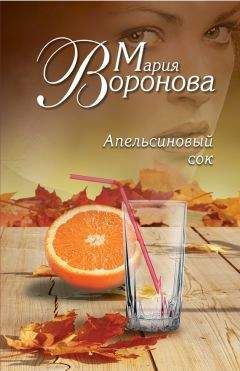Хрр-ру-у-у-у-ххх!
Разбойный посвист множества летящих с невероятной скоростью предметов обрушился на них, как порыв ветра, обдал… Плечо Кирьянова обожгло, словно струей кипятка, и он охнул, и, будто эхо, рядом прозвучал громкий болезненный крик, и кто-то рывком вздернул Кирьянова за шиворот, вытаскивая на берег, и он покорно дернулся, как кукла, спиной к откосу, лицом к мосту…
И успел еще увидеть, как мост сминается во всю свою длину, словно карточный домик, как проваливается под нешуточной тяжестью бронепоезда – медленно, жутко и нелепо, как с оглушительным треском кренится в своем гнезде горизонтальная балка, как буквально в полуметре от него, толкнув в лицо упругой волной воздуха, обрушивается тройной горизонтальный «рельс», по пути ударив, смяв, увлекши в бездонную пропасть Жаукенова, еще до того обвисшего на своей веревке, державшегося лишь одной рукой. Оглушительный тягучий скрежет на той стороне моста, и все проваливается в бездну – изящно выгнутые фермы и стойки, не соединенные более меж собой вагоны бронепоезда в клубах то ли дыма, то ли пара, и Жаукенов, и ни следа не остается, никакого моста, как не было, только короткие обломки торчат из вертикального откоса нелепо и жалко в слабом сиянии уже двух, а не трех лун…
Все тело было уже на берегу, только ноги ниже колен болтались над пропастью. От сильного рывка он пробороздил затылком землю, а потом и его пятки угнездились на твердой земле. Сознание отчего-то работало с невероятной четкостью, и он успел вполне трезво и холодно удивиться: как его сумел вытащить худой тщедушный Кац?
А потом далеко внизу, где-то в бездонном мраке, оглушительно ухнуло, прогрохотало дважды – бронепоезд достиг наконец дна. И ясно было, что нет силы, способной спасти Жаукенова, что нет больше и самого Жаукенова…
Кирьянов не сразу сообразил, что короткий звериный стон был его собственным вскриком.
В чащобе по ту сторону пропасти замелькали во множестве желтые тусклые огни, двигавшиеся хаотично и низко над землей, больше всего похожие на скопище факелов. И резкий голос штандарт-полковника ударил по нервам:
– Уходим, немедленно!
Глава двадцатая
Половецкие пляски
Кирьянов не смог бы дать точное определение своим чувствам, благо никто и не требовал. Никогда прежде ничего подобного испытывать не приходилось: конечно, пожарный, говоря устоявшимися штампами, человек мужественной и опасной профессии, что, между прочим, чистейшая правда, а как же иначе, коли имеешь дело с огнем, который следует утихомирить. Огонь – это, как ни крути, стихия, одна из классической четверки. Но тут совсем другое. Война, пусть и не похожая на войну. И однажды один из них с этой войны не вернулся. Ни особой дружбы, ни намека на близость меж ним и Жакенбаевым так и не сложилось, но это был свой.
На душе было одиноко, паршиво и больно. Тоска усугублялась оттого, что он, собственно-то говоря, так и представления не имел, за что погиб Жакенбаев. Наверняка за что-то большое, серьезное, чертовски важное и, очень может быть, возвышенное. Но знать бы, за что…
Умом он понимал, что все правильно, что иначе просто не бывает ни на Земле, ни в Галактике за все тысячелетия длинной истории. Французский гренадер, какой-нибудь Анри из Пикардии, рассказывал о Бородинской битве наверняка иначе, нежели Наполеон Бонапарт, фельдмаршал Кутузов и даже какой-нибудь гвардии прапорщик, не важно которой армии. «Ну, это… Унтер Жорж нас поставил на горушке и велел с места не сходить, хоть тресни, а потом пушки поблизости загрохотали, и ка-ак понеслись на нас кавалеристы в черных киверах… Длинному Жаку сразу попало палашом по башке, не успел ни охнуть, ни маму помянуть, Пьера вмиг стоптал ихний передовой, а я спинушкой к дереву встал, штыком кое-как отмахался, они дальше пронеслись, а там наши прискакали, пошла рубка… Чего еще? А так оно и шло, то мы на них, то они на нас к вечеру, конечно, все притихло, а пожрать все ровно не привезли, только утром и удалось супцу похлебать…»
Он задумчиво смотрел на портрет Жакенбаева, час назад повешенный в вестибюле. Сразу было ясно, что это сделанная с живого фотография, но все равно казалось, будто неказистую физиономию косенького Жакенбаева, скучную и неприметную, посредством монтажа присоединили к парадному мундиру с золотым шитьем, аксельбантом сложного плетения и впечатляющим набором орденов.
Вот именно, ордена… Кроме регалий Содружества, на груди покойного Кирьянов с превеликим изумлением узрел и золотую Звездочку Героя Соцтруда, и орден Ленина, и Трудовой Красный Штандарт, и «Знак Почета», и полдюжины медалей – а на правой стороне груди несколько смутно знакомых маленьких медалюшек, символизировавших то ли лауреатство, то ли высокие премии. «Нет, ну надо же, – подумал он с вялым удивлением. – Передовой чабан, что ли? Неслабый натюрморт…»
Он собрался было повернуть в сторону каминной, но, услышав тихое свиристенье киберов-уборщиков, направился назад. Дверь в квартиру Жакенбаева была распахнута настежь, и Кирьянов не смог побороть искушения…
Судя по всему, уборщики только-только заявились, не успели еще приступить к ударному труду, и все осталось в полной неприкосновенности. А там они и вовсе замерли, выжидательно помаргивая сиреневыми фасеточными глазками, узревши высшее существо, сиречь сапиенса, остановились в нелепых позах, чтобы, не дай бог, не помешать и не оказаться на дороге.
Чем дольше он осматривался, тем страннее ему становилось. Очень уж много книг здесь оказалось – многовато не только для знатного чабана из южных песков, но и для человека образованнее. Не будучи силен в иностранных языках, Кирьянов не мог прочесть даже заглавия. Впрочем, с теми фолиантами, что напечатаны по-русски, обстояло не лучше. Он понимал, что дело касается какой-то из точных наук, но в толк не мог взять, о математике идет речь, о физике или астрономии. Топологические развертки структур, ассоциативные ряды причинных континуумов… Наугад полистав первый подвернувшийся под руку том, он увидел формулы, графики, россыпь непонятной цифири, но и тут не понял, о которой науке следует думать. Гораздо интереснее другое: автором парочки заумных трудов значился по-русски К. Л. Жакенбаев, и определенно та же самая фамилия была изображена на полудюжине корешков доподлинной латиницей.
Потом он увидел фотографии на стене. Среди высоких, представительных, осанистых господ в черных мантиях и четырехугольных беретах стоял одетый точно так же Жакенбаев, ничуть не казавшийся смущенным или растерянным – видно было, что он осознает себя на своем месте, на равной ноге с этими осанистыми и седовласыми…