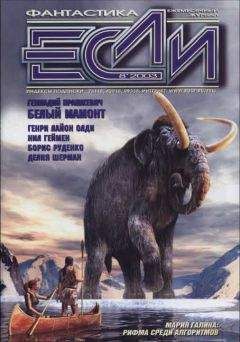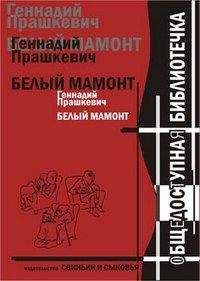— Утром я уезжаю. Ждать не стану. Успеешь?
— Успею! Я никуда не уйду из этой харчевни! Я уеду утром вместе с тобой!
— Собрать вещи в дорогу?
— Нагишом побегу! Босиком!
— Родители? Друзья? Жена? Я слышал, ты ждешь ребенка…
— Пусть! Позже вернусь, объясню… Они поймут!
— А если не поймут? Не простят?
— Плевать!
— Хорошо. Ты мне подходишь. Будь готов утром к отъезду. В Гульденберге я выдам тебе задаток в счет будущих доходов. Год, может, полтора… Устраивает?
— Освальд! Благодетель!..
Юрген вскочил, желая поцеловать руку спасителя. Его шатнуло, будто движение маятника в кулаке и серьги в ухе Освальда ван дер Гроота передалось несчастному; маленький человек схватился за живот, охнул, заглушая гулкое бурчание в утробе.
— Я… я сейчас…
Опрометью Юрген вылетел на двор, забыв одеться потеплее. Хлопнула дверь. Лишь теперь Петер заметил, что остался один на один с Освальдом. Стояла глухая ночь, со второго этажа несся храп молодого Пьеркина и еле слышный свист: у Старины Пьеркина на храп недоставало сил. Со стороны каморки служанки Кристы никаких звуков не доносилось. Синий от беспробудного пьянства месяц заглядывал в оконце: эй! чего не спите, братцы? Оцепенение мало-помалу отпускало, тело успело отдохнуть, ёж покинул горло, и лютнист чувствовал бы себя совсем хорошо, если бы не понимал: спроси кто завтра о внешности господина ван дер Гроота, и Сьлядек ничего не сможет ответить. Только часы на цепочке, серьга в ухе да страх перед чем-то большим, нависшим над тобой и готовым рухнуть в любую секунду.
Время — деньги.
Засыплет лавиной монет, не откопают.
Пальцы, соскочив с назойливой лесенки ритма, сами вспомнили забытую мелодию. Слова этой баллады сочинил некий школяр-висельник, ворюга из Парижа, родной брат буйных авторов «Кочевря-ки», который, по слухам, продался дьяволу за способность избегать петли на Монфоконе:
…Рай — место для его души!
О Господи, в честь дружбы старой
С покойным бочку осуши
За душу стряпчего Котара!..
— Ты ошибаешься, юноша, — в слове «юноша» царила откровенная зависть. — Моего нового стряпчего зовут Юрген, а не Котар. И я не беру его на небо. Мы едем в Гульденберг. Ночь умрет, взойдет солнце, и мы уедем.
Освальд наклонился вперед, опрокинув пустой кувшин. Стало ясно: за лицом ван дер Гроота, за строгим, малоподвижным лицом, каких двенадцать на дюжину, тоже заперт кто-то: больной узник, чья решетка сделана из чистого золота, но вряд ли поддастся, тряси не тряси. Он смертельно пьян, в ужасе подумал Петер Сьлядек. Господи, он в сто раз пьянее Юргена!., он наврал!., он все наврал, а Юрген сойдет с ума, когда узнает…
— Хочешь поехать с нами?
— Н-нет…
— Твое дело. А я поеду. Это будет моя последняя дорога. Больше я из Гульденберга ни ногой. Ни шагу! С места не двинусь!
Безумие хмеля или отчаяния рвалось наружу, брызжа слюной. Рушились запоры, ломались запреты. Освальд сейчас говорил не с Петером, скорее всего, он вообще не видел лютниста, выкрикивая обвинения в адрес людей далеких и не слышавших господина ван дер Гроота, своего поверенного. Щеки обвисли, набрякли кровяными прожилками, рот исказился гневом:
— Все! Приехал! Контракт? К бесу ваш контракт! Подавитесь!
Он резко встал. Упав, громыхнула лавка. Часы, по-прежнему зажатые в кулаке, ускорили движение; вдвое, втрое быстрее закачалась серьга в ухе. Огромный человек грозил призракам, и маятник спешил, задыхаясь, вперед и вперед, к концу дороги.
Деньги сыпались из прорехи в кошеле: тик-так.
— Я уже ваш! Я давно ваш! Думаете, не знаю? Знаю! Все знаю! Мое время в дороге бежит, сломя голову! Я ваш! Целиком! С потрохами! Менялы сдохнут от зависти: такой курс им не снился… Год пути за два! День за неделю! Ночь за месяц! Проклятье… страсти Господни!.. как заработок у пьянчужки бежит оно, как жалованье транжиры! Как вода меж пальцев… Пять лет дороги!.. Вы гоните меня вон, вы ласково убиваете меня, выталкивая прочь… Черт бы вас побрал, убийцы… Я трачу, трачу, трачу, я скоро буду нищий везде, кроме вашего треклятого Гульденберга, но вы отправляете меня наперегонки с Безносой, снова и снова! Я богач, моих денег хватит на долгую безбедную жизнь детям и внукам, но контракт! Нарушь я договор, откажись ехать по вашим поручениям, и что? Я разорен! Неустойка, возмещение убытков… Моя жена падет в ноги гнусному карлику-папа-ше: вымаливать лишнюю минутку! Моя дочь ляжет под жирного, похотливого борова, лишь бы он, уходя, оставил ей на столике у кровати полторы недели! Мой сын… дочурка Катхен, моя маленькая… Даже покинуть ваше кубло они не смогут: сутки пути, и солнце больше не застанет их на земле! И вы, лицемеры, смеетесь: «Поезжай, Освальд! Пока не отыщешь себе замены…» Нет! Выкусите! Я не умру в пути! Я родился в Лейдене, где деньги — деньги, а время — время! Моей казны, отпущенной не вами — Господом! — при рождении, хватит, чтобы доставить замену в ваши лапы, и потом… ни ногой!., ни шагу!.. Жить! Сами себя тратьте, сволочи…
Левой ладонью он с размаху запечатал рот. Захрипел, давясь несказанным. В три шага оказался рядом с Петером; ухватив за лацканы куртки обеими руками, вознес щуплого лютниста к своим бешеным глазам.
— Молчи! Убью!
— Д-д-д… — сказать «да» не получалось. Не хватало воздуха. Зубы выстукивали «Кочевряку». А ведь убьет… Безумец…
— Скажешь этому — прикончу! Понял?
Петер хрипел, судорожно пытаясь кивнуть и боясь, что кивок сломает ему шею раньше, чем лапы сумасшедшего Освальда. У груди бродяги качался маятник «нюрнбергского яйца»; у его лица качался маятник серьги.
Храбрый месяц бодал окно, спеша на помощь.
«Так! так!..» — кричали звезды, рукоплеща вожаку, и наконец последний удар прорвал плотину.
Позже Сьлядек не сумеет вспомнить миг изменения. Просто узник, укрытый за искаженными чертами Освальда, вырвался на свободу, напоследок опьянев от хмеля воли, и Петер почувствовал, что больше не боится. Бояться этого несчастного, насмерть перепуганного горемыку было невозможно. Пожалеть — да. Но страх ушел и не вернулся, даже когда господин ван дер Гроот стал меняться. Богатая одежда осыпалась с дородного тела, катились кольца с пальцев, распадались башмаки, оплывал кафтан — монеты, монеты, монеты звонкой гурьбой бежали по полу, каплями впитываясь в доски, исчезая навсегда. Нет — снегами, дорогами, перелесками, путями нехожеными возвращаясь в вольный город Гульденберг, где наследники ждали своей доли имущества. Кожа лица натянулась пергаментом, перо-невидимка вспахало лоб беглыми морщинами. Глубже, больше, отчетливей. Выгребными ямами запали глаза, теряя цвет. На запястьях вздулись синие вены, ключицы заострились, плечи поникли, не в силах больше выдерживать тяжесть Петера. Рухнув на лавку, Сьлядек смотрел, как перед ним, третьим маятником, качается глубокий старик — нагой, словно младенец в момент рождения.