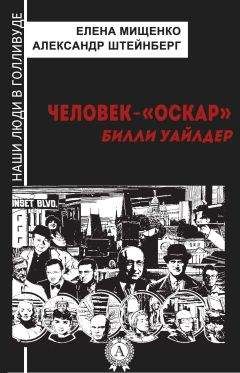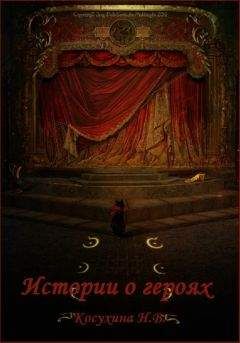При всём том в личном смысле Лев Генрихович был милейший человек, и, к тому ещё, первейший благотворитель и филантроп. Единственно что за ним водилось предосудительного, так это его крайняя нелюбовь к духовному сословию, впрочем, по-человечески понятная: бывшая супруга Льва Генриховича, Нина, сделала ему немалый афронт, а именно — против воли мужа бросила дом и подвизалась в Новопечерске при некоей «старице Синклитике», в миру более известной как Жанна Пферд, в прошлом известной трибаде, и в новом своём положении отнюдь не излечившейся от противуестественного влечения к своему же полу… Впоследствии госпожа Остензон самовольно покинула Новопечерск (как говорили злые языки, на почве женской ревности: старица увлеклась другой), бедствовала, и даже пыталась списаться с мужем, чтобы тот или взял её обратно в дом, или хотя бы назначил достаточное содержание. Лев Генрихович поступил удивительным образом: рассчитав всю сумму содержания на десять лет вперёд, выдал своей бывшей супруге все деньги единым чеком, поставив при том условие гражданского развода, и что эти десять лет она никаким образом не будет его беспокоить. Расчёт оказался верен: Нина промотала весь свалившийся на неё капитал в полгода, после чего попыталась опять получить что-нибудь с мужа. Господин Остензон, однако, никаких её претензий не пожелал и слушать, ссылаясь на прежний уговор. Нина ещё покрутилась в Москве, просадила остаток денег, после чего съехала из Первопрестольной незнамо куда. С тех самых пор Лев Генрихович жил бобылём — хотя в последние месяцы неоднократно бывал замечен в обществе некоей белокурой певички из «Оперы-Палас».
«Акула» сидел за обычным их столиком в малой зале (там собиралась только публика соответствующего калибра) и со вниманием разглядывал изящный, розового резного стекла, бокал для хлебного вина. Такие бокалы вошли в обиход, как это обычно у нас происходит, под французским влиянием: модные парижане, в последние годы изрядно пристрастившиеся к употреблению ирландских уиски и русских водок, привнесли в эти простые занятия толику галльского изыска, введя в употребление так называемый la coupe courte: особую рюмку с невысокими краями и специальным стеклянным шипом на боку, для кусочка сыра или оливки, или иной лёгкой закуски.
— Ага, Ипполит Мокиевич, дорогой! Вот радость-то, — просто и искренне сказал Лев Генрихович, вставая из-за стола. Они обнялись. Остензон был высок, широк в кости, но по сравнению с Крекшиным казался худощавым. Белое, гладко выбритое лицо его с маленькими, но чрезвычайно живыми и проницательными глазками лучилось довольством и расположением. Крекшин, правда, помнил, как благообразный Остензон с тою же доброжелательность в облике подписывал соглашение об исключительных поставках горячекатаной рельсы для Каирско-Кейптаунской Железнодорожной компании, впоследствии ту компанию и разорившее. Но то был, как говорят во втором, заатлантическом, отечестве Льва Генриховича, «business». Это как в картах: сколько продул, столько и изволь отстегнуть, или уж не садись за тот столик, где играют по-крупной.
Крекшин не раз задумывался, что вышло бы, если б где-нибудь его интерес схлестнулся с остензоновским. Пока что Бог миловал: друзья ровно трусили в одной упряжке.
Сегодняшнее дело в этом смысле никаких изменений тоже не обещало. Тем не менее, Крекшин, непонятно от чего, ощущал какое-то беспокойство. Что-то томило его, непонятное, но ожидаемое в самом ближайшем будущем.
Ипполит Мокиевич с шумом отодвинул тяжёлый деревянный стул, сделанный специально по крекшинской телесной пропорции, и уселся, по неистребимой привычке оперев локти на скатерть. Столешница, тоже сделанная на совесть, слегка скрипнула.
— Ну, дорогой, с приездом, — «акула» поднял рюмку, пододвигая Крекшину его персональный графинчик и стопочку. Добрый купчина не уважал новомодные французские «гвоздики», как их называли в Москве из-за шипа, и предпочитал старую добрую питейную посуду раньшего времени. Палкинские же графинчики и стопочки сохраняли неизменный вид с пятидесятых годов, и были творением знаменитого Ивана Билибина III-го, изготовившего партию специально для «Палкина». Впоследствии трактир выкупил исключительные права на эту коллекцию, после чего учредил, и каждый год возобновлял, пятитысячерублёвую премию — тому, кто обнаружит питейное заведение, незаконно пользующееся того же вида посудой. Премию присуждали трижды, и каждый раз «Палкин» выигрывал дело по суду вчистую. Последний раз на использовании палкинской посуды попался «Русский Дом» в Новом Орлеане. После этого уже никто не пытался скопировать знаменитые палкинские графины с белыми птицами на горлышке.
— Беленькая-то подморожена, — с неудовольствием заключил Крекшин, после того, как друзья опрокинули по первой, и закусили горячими грибочками. — А хорошая водка должна питься легко и безо всякой заморозки. Вкус должен быть у хлебного вина, вкус, а не это самое…
— Ну не скажи, — привычно откликнулся Остензон, предпочитавший кушать главный национальный напиток холодненьким — с морозцем как раз вкуснее.
— Это у тебя фамильное, — столь же привычно уколол его Крекшин. То был намёк: батюшка Льва Генриховича, ныне покойный Генрих Францевич Остензон, сделал свой первый капитал на спиртовом заводике, где применялся дешёвый холодный способ — что впоследствии изрядно ему повредило в глазах общественного мнения, когда в тридцатые началась всероссийская борьба с зелёным змием, чуть было не кончившаяся принятием Думою «сухого закона» наподобие пресловутого американского.
«Акула» открыл было рот, чтобы вернуть колкость (благо, было чем), но в этот момент принесли знаменитый палкинский «митрополичий супчик». После супчика же (вкушение какового сопровождалось дальнейшими возлияниями) образовавшееся благодушие сделало дальнейшую пикировку совершенно неинтересной.
— У нас в Америке, — откинувшись на резную спинку своего сиденья, рассказывал Остензон, — новоначальные православные… много их там развелось… так вот, часто интересуются насчёт постов. А я им всегда говорю: главное — держать в уме, что водка — постная, остальное же не столь существенно…
— Они же там вроде бы уиски употребляют, — свернул Крекшин с неприятной темы поповщины, поскольку считал себя русским православным человеком, верил в Господа нашего Иисуса Христа, и уважал Святую Церковь.
— Уиски тоже постное, — отмахнулся Лев Генрихович. — Вот ведь, кстати, загвоздка: уж как пятьсот лет прошло, или сколько там… а лучше водки люди ничего не выдумали. А говорят — развитие идёт, развитие… Где оно?