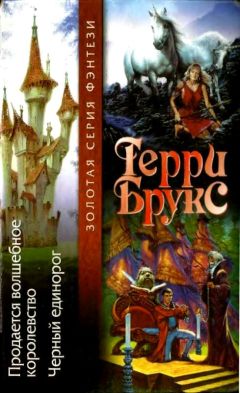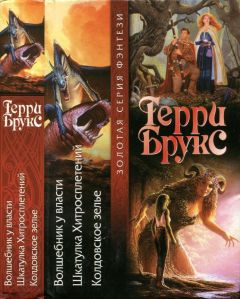Избушка скрипнула старыми бревнами.
— А ну, отойди! — Илья зло прикрикнул на избу. Та послушно поднялась на ноги и, как бравый дружинник, исполнила веление. — Дальше!!! Чтоб глаза мои тебя не видели! — Илья прокричал приказ громко и властно. Избушка засеменила в лес. Илья поцеловал Ежку в холодные губы. — Тяжкую ношу ты на меня взваливаешь… Ой, боюсь, не выдюжу…
Обугленная рука с силой сжала нательный крест.
— За что со мною так? За что?!!
Расплавленное серебро потекло по не чувствующим боли дымящимся пальцам.
Блестящие капли ярого металла оросили густую траву. Полная луна сияла в темносинем небе.
Глядевший на нее человек шептал странные слова:
— Ты, ночная хозяйка, будь моей единственной госпожой! И зови меня именем моим исконным, тем, что матушка нарекла…! Зови меня Кощеем…
Избушка тихо наблюдала за человеком сквозь ветви вековых деревьев. Она была довольна.
В году 1284. Чародей-крысолов звуками дудочки выманил из Гамельна детей
(Надпись на стене ратуши г. Гамельна)
An Week nekt Schteen nekt Grants for Freend…
На Дороге не останавливайся нет преград для свободных…
(Надпись на одной старинной монетке из далекого Города)
1
Он помнил. И пусть то была иная, чужая память, но он все-таки помнил. Страшный город. Грязные мостовые, дома серого камня, тускло-красные черепичные крыши.
Высокие, с золотом, шпили соборов. Городские стены, стража в воротах. Он видел город иначе, чем горожане. Он боялся задохнуться. Люди текли мимо него: бюргеры, солдаты, нищие, домохозяйки и проститутки… Улица была переполнена звуками, но он не различал даже брань и смех — то был один единый звук, голос города. В этом голосе был болезненный надрыв, и он понимал, что город болен, город умирает… но не умрет. Город всегда жил и всегда будет жить так…
Он помнил нищего на площади у собора святого Бонифация — это было так странно: золото цепей бюргеров и гноящиеся язвы на обнаженной руке старика. Бюргеры давали монетки своим детям, и те бросали медь в грязную шапку…
Он видел — они довольны друг другом, старик рад милостыне, бюргер — тому, что совершил «доброе». Молодой дворянин верхом на коне со вкусом сплюнул в сторону старика, рассмеялся, точно попав в его шапку. Старик заулыбался, кланяясь молодому господину… — Они все больны, — думал он, — они не виноваты. Это город заразил их всех, выел их души. Город их всех убил… Он помнил, как ночью били кого-то на улице.
В домах еще не спали — свет из окон пятнами лежал на мостовой. Никто не вышел на крик.
Он помнил монаха, схватившего за зад тощую торговку на рынке. Он помнил стражника, берущего деньги у вора. Он помнил страшное — улица, очень много людей, они все спешат куда-то, и глаза их пусты. Он помнил, как бежал из города, охваченный паникой и решивший, что ему нечего противопоставить злой силе города, пожирающего людей.
2
Переход на Парке Культуры опять был закрыт, и до Пресни пришлось добираться в обход.
Конечно, жаль было и потерянного времени, но гораздо больше Андрея раздражала необходимость лишнюю четверть часа провести в метро. Метро он не любил давно и прочно — за спертый воздух, напитанный запахами техники и потных тел, за вечные толпы людей, одуревших от грохота и толкотни. Сегодняшний день был расписан по часам.
Сначала надо было в издательство привычно ругаться по поводу задержки его новой книги. Конечно, Андрей давно уже не был тем двадцатидвухлетним юношей, который, получив пять авторских экземпляров своей первой книжки, целый час просидел на бульваре с двухлитровой бутылкой пива, снова и снова с восторгом перелистывая свое детище и не веря своим глазам. С тех пор прошло пять лет. Пять книг — не так уж мало для автора, которому нет еще и тридцати. И все же время, проходившее со сдачи каждой новой книги в печать и до ее выхода, всегда тянулось для Андрея мучительно долго. Он удивлялся, думая о том, как при «застое» авторы нередко дожидались своей очереди годами… Ругани, однако, не получилось. Директор отсутствовал, а с ним — и зам. по производству. Андрей потолкался по комнатам офиса, забрал у секретаря почту и уехал.
Следующим пунктом его сегодняшней программы было посещение редакции одного из журналов, с которыми он сотрудничал, — нужно было завезти рукопись статьи, обещанной уже год тому назад. Разговор с редактором, как всегда, затянулся: пришлось выпить несколько чашек кофе, выкурить четверть пачки сигарет, выслушать последние сплетни.
Андрей уже поглядывал на часы…
И снова — в метро, иначе не попадешь домой…
Мальчишки уже ждали его у подъезда. Сегодня их было только двое; впрочем, старший — Борис — уже скорее юноша, учится на втором курсе геологоразведочного института.
Черноволосому Максиму, его приятелю, пятнадцать.
— Привет, райдеры! — Андрей всегда искренне радовался, глядя, как улыбаются, приходя к нему в гости, эти ребята, еще не научившиеся при необходимости раздвигать губы в жалком подобии настоящей улыбки. Ему даже казалось, что Борис, тот, например, никогда этому не научится. (И дай Бог, думал Андрей.)
— Сам райдер! — отозвался Макс, протягивая ему руку.
— Здравствуй, — солидно сказал Борис. Они поднялись в его однокомнатную квартирку на девятом этаже; Борис достал из рюкзачка кулек с печеньем и привычно, похозяйски отправился на кухню ставить чай. Макс принялся помогать Андрею, разгребая сваленные на диване бумаги, чтобы было, куда сесть.
— Что это вы только вдвоем сегодня? — спросил Андрей.
— Может, еще Дэн с Сашкой придут. И Татьяна вроде собиралась, — Макс уже уселся на отвоеванный у рукописей уголок дивана и легкомысленно устраивался на нем с ногами. Потом чуть посерьезнел.
— Андрей, я новые стихи принес. Посмотришь? Как они изменились, подумал Андрей.
Тот же Макс, два года назад он был такой съеженный, обиженный миром и ощетинившийся в ответ на обиду. Борис едва не силком притащил его к Андрею. И только через год Макс первый раз показал ему свои стихи, хотя другие ребята давно, не стесняясь, читали свои вещи. Боги, какие это были стихи! С ломаным размером, иногда почти без рифмы, болезненно неумелые стихи тринадцатилетнего подростка. Андрей читал их, давясь непонятным стыдом пополам с жалостью. В этих стихах было пока только две краски: боль обиды и радость жить, но Андрей сразу увидел, что у мальчишки, смотрящего, как он читает, очень большой, настоящий талант. И тогда же он подумал, что Макс никогда не будет известным (популярным — это слово вызвало тогда отвращение) поэтом.