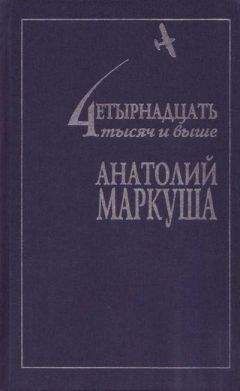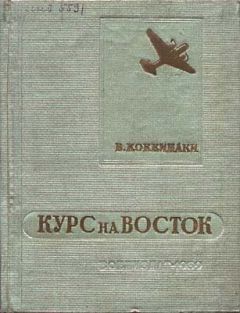Так прошло месяцев шесть, я уже начал понимать и кое-что выговаривать по-английски и однажды отважился — попросил: дайте слетать на «Кобре». Этот истребитель американцы рекламировали, как лучший в мире боевой самолет. В Россию «Кобру» поставляли крупными партиями. Между прочим, на «Кобре» летал сам Александр Иванович Покрышкин.
В первом же полете, когда мне разрешили испробовать истребитель, я сразу вспомнил ту машину, на которой тикал от немцев. Без брехни должен сказать — «Кобра» мне показалась посильнее, но… совсем не на так уж много.
Через некоторое время наш надзирающий, как между собой мы называли незаметного майора, кидает мне вроде бы между прочим, на ходу:
— Почему, не предупредив, не согласовав, полез на «Кобру»? Ты ж «лодочник», как мне известно?
— Мне там, — я энергично ткнул пальцем в американское небо, — в Москве еще велено было осваивать все, что только удастся освоить, чем больше, тем лучше.
Майор поглядел на меня подозрительно, ничего не запретил, ничего не отменил, только неопределенно нукнул:
— Ну-ну!
Как уж получилось не знаю, после «Кобры» меня стали то на том, а то на другом самолете планировать. Словом, за год я и на истребителях налетался и вторым пилотом к «летающей крепости» примерился.
Летал я на всю катушку и мне это очень нравилось. Какое обо мне у американцев впечатление сложилось, понятия не имею, а вот я себя, не скрою, — зауважал. От ничтожного аэроклубного налета ведь почти самостоятельно, можно сказать, эвон куда поднялся. А было в ту пору всего-то двадцать три года. Самое бурление.
Скажу прямо, как ни здорово — летать, только одними полетами не обойтись. Живой человек. Мужик… По моим понятиям самообслуживание — занятие унизительное, чтобы по этому поводу не вякали ученые сексологи. Как у нас со Жгентией разговор вокруг этой деликатной темы закрутился, не помню, но он дал мне понять: наши надзирающие интернациональных связей не одобряют, так что, если устанавливать контакты с местными дамами, надо это делать аккуратно, и не следует прилипать к одному объекту надолго. Засекут непременно! Ну, а сами по себе американки ничем особенно от наших девиц не отличаются. Пожалуй, только моются чаще. Разговаривать с ними много не требуется. Подарки принимают не жеманясь. И под конец своей информации, улыбнувшись на все тридцать два ослепительных зуба, Жгентия предложил:
— Желаешь, дам провозной полетик? — и он стал излагать свои основополагающие взгляды на «женский вопрос». — Баб принимаю, как явлэние природы, как неизбэж-ность. Но тэрпэть не могу, хотя наощупь эти стэрвы бывают очэн приятные… Мой закон — дэлай ей хорошо, получай свое удоволствие и ничего нэ обещай, никаких разговоров про любов нэ заводи… глупости это!
Тогда все это было очень интересно слушать, немного боязно узнавать, тем более — соглашаться со Жгентией. И когда дошло до конкретики, все я сделал наоборот, совсем не так, как рекомендовал старший коллега, ходок и мастер охмуряжа. Он, как и обещал, вывел меня на цель. Девушка оказалась такая белая-белая, будто ее кожу покрыли белилами, при том она была рыжеволосая, рыжей морковки. На нижней губе, изнутри у нее была очень впечатляющая припухлость. Короче говоря, я врезался в это чудо природы по самые, как говорят, уши и вовсе не испытывал никакого желания заметать следы, менять «цель», как советовал многопытный Жгентия. Днем я обычно летал, а освободившись от работы, чуть ли не ежедневно сматывался к Молли.
Разговаривали мы мало, хотя я уже кое-чему научился и с пилотами или механиками мог объясниться не только на служебные темы. А вот с Молли жалко было терять время на болтовню. Судя по ее поведению и она придерживалась примерно такого же мнения.
Жгентия, от острого взгляда которого ничего не укрывалось, месяца через два такой жизни сказал озабочено:
— Посмотри на себя в зеркало, ты жэ нэ человэк, ты — ободранный кот. У тэбя нос больше моего носа стал! Прекрати эти пэрэгрузки, пока тэбя не прекратили здэсь.
Он как в воду смотрел. Молча, тихо меня перенацелили. Из Америки не поперли, но назначили в перегонную группу. С точки зрения познавательной это было даже любопытно — мы пролетали своим ходом от Аляски до Мурманска. Не слабо? Часовые пояса так и отскакивали за спину. Такие сверхдальние перелеты на истребителях — великолепная шлифовка мастерства, тем более что погода на трассе — капризней не выдумать.
Поверь на слово, не однажды приходилось снижаться в такой неизвестно откуда наползавшей облачности, что идешь к земле и хоть молись — ну, боженька… покажи землю-матушку… на высотомере у меня ноль, боженька… сделай, чтобы не случилось по анекдоту: нет земли, нет земли, нет земли… полный рот земли!
«Кобра» была надежной машиной, ничего не скажешь, только в те годы оборудования для слепой посадки еще не существовало. И приходилось продираться сквозь глухую белую муть, когда и горючее уже на исходе, в буквальном смысле на честном слове…
Приказали, и я исправно гонял «Кобры», мне не хватало Молли, но больше всего думал в ту пору: когда же это все кончится? Не может война тянуться вечно. Думал и переживал, пока не завалился на вынужденную, не долетев до Тикси километров сорок. Учитывая, что я — не Джек Лондон, прошу прощения, и рассказывать, как тащился эти окаянные километры, как сам себя готов был похоронить, не стану. В итоге я сильно обморозился тогда, но выжил, хотя на какое-то время маленько, по-моему, трехнулся. Еще отлеживаясь в госпитале, случалось, мучался какими-то дикими бессвязными видениями, мне слышались голоса, чудилось, будто из снега поднимаются незнакомые лица, они пытаются разговаривать со мной, зовут куда-то, смеются и плачут…
Лежу, обрастаю новой кожей, обновление идет очень медленно, все чешется, хочется ободрать себя до самых костей, и тут вроде изменяется освещение, в голове возникает мерный шум, но не моторный, вроде бы — это море стонет. И из голубоватых сумерек появляется Молли. Или не она? Она! Не могу понять, где я — в Америке или дома? Мы ведь подлетали к Тикси, когда у меня разнесло винт… И снега кругом были наши, российские.
— Это ты? — спрашиваю я Молли.
— А кто же? Я…
— Как ты меня нашла?
— Очень просто. Ты же в своей палате.
— Скажи, мы разговариваем по-английски или по-русски, я что-то не могу уловить…
Слышу ее смех. Ласково, хорошо так смеется. И мне кажется, будто я становлюсь маленьким. Я живу на берегу моря. И кругом песок, песок, песок, мягкий, как мука и белый, как снег, только теплый… Потом я куда-то проваливаюсь. И ничего не помню больше.
На другой день меня утешает доктор: «В конце концов все будет хорошо, — уверяет он, — после таких травм и потрясения, что тебе достались, нервишки нормальным порядком отказывают. Временно! Скоро пойдешь на поправку».