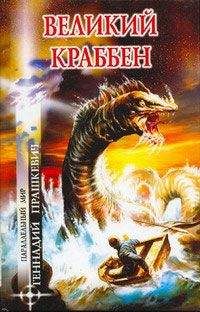Алевайка широко раскрывала глаза: страсть!
Ходила к дикующим. Те чувствовали родство. Протягивали руки.
И к немцу протягивали, чтобы убедиться, что он тоже человек. Вот идет, оставляет круглый след. На деревянной ноге нельзя ходить по снегу, а он идет, подпрыгивает, как птица или как шаман. Вот привел в сендуху стрельцов в шапках. Зачем? Сгинут. Дикующим в голову не могло придти, что потому и дали немцу стрельцов, чтобы не вернулись в Москву. Когда-то убежали с литовских рубежей, государь справедливо решил: зачем нам такие? Злые, ничему не верят. Но на дыбу в Разбойный приказ никак не хотят. Обещают: «Привезем вора Сеньку в клетке».
Морозы.
Немец томился.
Магнитная игла, как привязанная, указывала в сторону глухой протоки, занятой ворами – Семейкиными людьми.
И Аххарги-ю томился.
Сайклы резало от сияния чистых снегов.
Всего ничего – до этой проклятой Голыженской протоки, но не погонишь людей просто тычками. А сигналы сущности-лепсли именно оттуда шли. Девка Алевайка даже успокаивала. Вскормлена русской бабой, потому в сердце – жалость. Например, очень жалела повешенного: считала, что повесили не совсем по делу. Да и не успела вытрясти из него, что там взял за нее Семейка?
На самого Семейку тоже сердилась: вот оставлял ее приказчику только на год, а сам где? Всю ломало от любопытства: что за нее взял? Сильно бы обиделась, если б мало. От надоедливых мыслей ласкалась к немцу, как зверенок. Искала особенного взгляда, ждала весны. В нечаянном жесте, в словечке оброненном вдруг проскальзывало в военном немце что-то непостижимо знакомое. Так по сендухе идешь и видишь: все обычное – болотца, озерца. По бережкам травка растет – вышиной в четверть аршина, листы круглые, стебелек тонок. И вдруг – гриб особенный. Или звезда встанет так, что больно уколет сердце.
Прижимая руки к теплым грудям, прислушивалась к скрипу снега.
Думала (так сканировал сознание девки Аххарги-ю), что у рта мохнатые совсем как звери – охотятся друг на друга. Хотела немца и одновременно хотела, чтоб вернулся Семейка. Понимала, что так не бывает. Среди ночи проснется, а невидимый ефиоп посапывает в углу, как черный мальчик в тулупе. Темно, смутно. В сердце обида. Зачем такой большой мир? Откуда приходят и куда уходят у рта мохнатые? Отчего летучая мышь носится так, будто в том ее личная заслуга? Наконец, для чего ее, нежную Алевайку, одноногий гладит по черным прямым волосам, а государевых приказчиков берет да вешает?
Семейка на глухой протоке думал примерно так же.
Кругом страна такая, что со страху одного дня не проживешь.
Когда в страхе уходили от немца через горы, олешки на перевалах ломали ноги, падали в ледяные щели. За пазуху заткнув теплые рукавицы, Семейка горячо дышал на озябшие пальцы. Уйти от стрельцов, иначе всех перебьют. Морозный туман плыл над снегом. От мехов щеки горели. Дым костров, теплые звериные оболочки. А ночью из светящегося морозного тумана – взгляд. Странный, попробуй пойми. Будто из нежного кристаллического тумана в инее смотрит лицо – со всей полнотой власти и грозного величия.
Падал снег – пушистая вода.
Под ногами становился твердым.
Военный немец копытил ногой снег, пытался догнать казаков.
Семейку обещал лично ободрать кнутом, голого выставить на лед протоки, облить водой, чтобы красивая стеклянная статуя стояла недвижно до весны, утверждая безвыходность любого греха.
Правда, и Семейка не дурак.
В свою очередь обещал отстегнуть дерзкому немцу деревянную ногу и принародно сжечь на его же собственной спине. Ишь, явился бляжий сын, подкидыш ада, взгляд водянистый.
А Якунька нашептывал: немец не простой.
Сам де рассказывал по дороге в Москву, что не с одного вора кожу спустил.
Англичан якобы вешал на реях. Португальцев жег, заперев в трюме барка. Топил голландцев. Про испанцев – только рукой весело махал. «Майн Гатт! У марселей отдали по одному рифу, спустили стаксели, грот-тресель взяли на гитовы, ни один галеон не ушел». А теперь шел себе уже по Сибири – так и несло паленым. Сжигал всех, кого находили нужным. Иногда маленький ефиоп ласково спрашивал: «Абеа?» («Ну, как ты?») и мешал сабелькой угли под ногами привязанных к ондушкам людей.
Ада подкидыш.
Серой от него несло.
Конечно, Господь, создавая живое, заранее знал, кто кому пойдет в корм. Но ведь тоже – как? Немец, к примеру, летом поймал одного Семейкиного человечка, прочел ему невнятно что-то вслух по бумажке и привязал к сухому стволу над большим муравейником. Ну и пусть, ну и оставь, коль так дело решилось, не ставь свечей из человечьего жира, как в аду. А ефиоп нет, будто так надо, голыми розовыми ладошками рылся в муравейнике, сердил насекомых.
Аххарги-ю этому радовался: никакого разума!
Радовался, что скоро вытащит друга милого контробандера нКва с уединенного коричневого карлика. Знал теперь точно: разумное от неразумного если что и отделяет, то единственно чувство красоты – вне всяких инстинктов. Вот дикующие, например, любят одиночество. Для них простор всего дороже. Сендуха большая, уйдут за горизонт – забывают семью. Если потом встретят – начинают жить, как с новой. Олешки мекают, крутит пурга. Чучуна – совсем дикий человек – выскочит. Дикующий на корточках сидит у небольшого костра, в глазах туман. Говорит: «Вы, русские, как чайки на нашей реке. Вы никогда сытые не бываете».
«А вы государя совсем не кормите. Много государю задолжали».
«Где же нам столько взять? У нас бескормица».
«Ох, не сердите Господа!»
«А это кто?»
Немец указывал рукой в небо.
Дикующий поднимал взгляд, ничего не видел.
Чесал голову, круглую, как тундряная кочка: «Мы над таким не думаем».
Объяснял: «Наша еда вокруг сама на ногах ходит. Наша еда постепенно сама растет, пока мы спим». Вот и получается: как развить разум, если все силы уходят на преодоление холода? Как развить разум, если все силы уходят на преодоление голода, наводнений, обжигающих вихрей? Разбойник Семейка (сканировал Аххарги-ю) тоскует о веселом светлом вертограде. Чтобы все там жили, как в сказке, и березы были – золотые. У Семейки руки по локоть в крови, а он хочет ставить чистые избы, выписывать из России девок. Они ж там непостижимой красоты.
Не разум, нет. Не разум еще.
Так, химические помутнения сознания.
С некоторых пор Аххарги-ю отчетливо начал улавливать сигналы сущности-лепсли. Гибкое время сладостно изгибалось в предчувствии великих перемен. Симбионтов с Земли теперь будем вывозить целыми трибами! В неразумности своей красота иногда возникает даже от неосмысленных движений. Вон водоросли медлительно волнуются, они думают разве? Вон белка стрекочет на печальной, закрученной ветрами ондуше. Разве сердце у нее? Сложно перепутан живой мир, напитан темными инстинктами. В будущих вереницах веков, может, и блеснут какие частицы разума, но пока – суета, смута, простые химические затемнения.