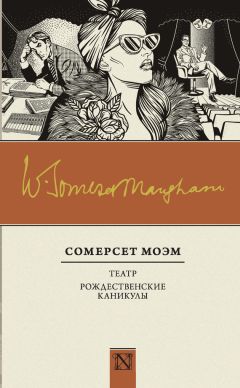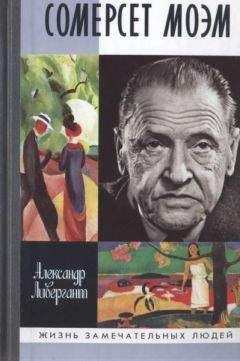Ознакомительная версия.
– Если он унаследовал призвание к искусству, то куда скорей от моей бабки. Помню, старик Сайберт говаривал: тот не знает вкуса рубца с луком, кто не отведал бабкиной стряпни. Когда она ушла из кухарок и стала женой садовника, мир потерял замечательную мастерицу своего дела.
Винития прыснула и простила его.
Слишком хорошо они друг друга знали, им не требовалось обсуждать возникающие недоразумения. Дети любили их и смотрели на них снизу вверх; и супруги согласились, что было бы безмерно жаль каким-нибудь неверным шагом поколебать веру Чарли в мудрость и честность родителей. Молодые нетерпимы, скажи им то, что диктует здравый смысл, они тут же сочтут тебя старым обманщиком.
– По-моему, не стоит запрещать ему это слишком решительно, – сказала Винития. – Он только заупрямится.
– Тут поначалу требуется осмотрительность. Не спорю.
Положение осложнялось еще тем, что Чарли привез из Тура несколько полотен и, когда показал их, родители отозвались о них в таких выражениях, которые теперь было бы трудно взять обратно. Они хвалили его работы не как знатоки, а как любящие родители.
– Может быть, тебе стоило бы как-нибудь утром позвать Чарли в кладовку, и пускай посмотрит полотна твоего отца. Ничего не навязывай, лучше, чтоб это получилось будто невзначай. А я при случае с ним поговорю.
Случай представился. Лесли сидел в малой гостиной, которую они отвели детям, чтобы те свободно ею располагали. На стенах красовались репродукции Гогена и Ван Гога, которые прежде украшали детскую. Чарли писал пестрый букет в зеленой вазе.
– По-моему, лучше вставить в рамы картины, что ты привез из Франции, и повесить их вместо этих репродукций. Давай-ка еще разок на них взглянем.
На одной из них были изображены три яблока на белой с синим тарелке.
– По-моему, она очень хороша, – сказал Лесли. – Я видел сотни картин с тремя яблоками на белой с синим тарелке, твоя им не уступит. – Он усмехнулся. – Бедняга Сезанн, интересно, что бы он сказал, знай он, сколько тысяч раз люди писали эту его картину.
Был и еще один натюрморт – бутылка красного вина, пачка французского табака в синей обертке, пара белых перчаток, сложенная газета и скрипка. Все эти предметы лежали на столе, покрытом скатертью в белую и зеленую клетку.
– Очень хорош. Многообещающая работа.
– Ты правда так думаешь, папа?
– Ну конечно. Видишь ли, работа не сказать чтоб оригинальная, у агентов по продаже картин таких на складе десятки, но ведь ты в жизни не взял ни единого урока, и работа поистине делает тебе честь. Ты, видно, отчасти унаследовал талант дедушки. Ты его картины видел, нет?!
– Я много лет их не видел. А тут мама что-то искала в кладовке и показала их мне. Страх и ужас.
– По-моему, тоже. Но в его время их воспринимали иначе. Их вовсю расхваливали и покупали. Вот и множество вещей, которыми мы сейчас восхищаемся, через пятьдесят лет будут казаться ужасными. Это самое страшное в искусстве – в нем нет места посредственности.
– Но ведь пока не попробуешь, не поймешь, кто ты.
– Разумеется, и если ты хочешь профессионально заняться живописью, кому-кому, а уж не нам с матерью становиться тебе поперек дороги. Сам знаешь, как много для нас значит искусство.
– Мне больше всего на свете хотелось бы заниматься живописью.
– Если жить скромно, при той доле Компании Мейсон, которая тебе отойдет, тебе всегда хватит. И я знаю любителей, которые создали себе вполне милое и негромкое имя.
– Но я вовсе не желаю быть любителем.
– Но с твоей тысячей-полутора в год вряд ли можно достичь большего. Не скрою, я буду несколько разочарован. Я держал для тебя место секретаря Компании, но кое-кто из твоих кузенов с радостью за него ухватится. Я-то полагал, что лучше быть умелым и знающим дельцом, чем посредственным художником, но это так, к слову. Главное, чтоб ты был счастлив, и нам остается только надеяться, что из тебя выйдет лучший художник, чем из твоего деда.
Они помолчали. Добрый взгляд Лесли был устремлен на сына.
– Только об одном я хотел бы тебя попросить. Мой дед поначалу был садовником, а его жена кухаркой. Я его едва помню, но, сдается мне, он был человек достойный, но грубоватый, неотесанный. Говорят, джентльменом можно стать лишь в третьем поколении, и во всяком случае я не ем горошек с ножа. Ты – четвертое поколение. Можешь считать меня снобом, но не улыбается мне мысль, что ты спустишься по общественной лестнице. Я бы хотел, чтобы ты поступил в Кембридж, получил степень, а потом, если захочешь поехать в Париж изучать живопись, езжай с богом.
Предложение отца показалось Чарли поистине великодушным, и он с благодарностью его принял. В Кембридже он наслаждался вовсю. Ему не часто выпадал случай заняться живописью, но он вошел в круг людей, увлекающихся театром, и на первом курсе написал несколько одноактных пьес. Их поставили в Любительском театральном клубе, и Мейсоны-родители приехали в Кембридж их посмотреть. Потом Чарли свел знакомство с одним преподавателем, выдающимся музыкантом. Чарли играл на фортепьяно лучше большинства студентов, и они вместе исполняли дуэты. Он изучал гармонию и контрапункт. Поразмыслив, он решил, что лучше ему стать не художником, а музыкантом. Лесли Мейсон весьма добродушно на это согласился, но когда Чарли получил степень, отец на две недели повез его в Норвегию поудить рыбу. Дня за три до их возвращения Винития получила от мужа телеграмму, состоящую из одного-единственного слова – «Эврика». При всей их образованности ни он, ни она не знали, что это значит, но смысл его получательнице был совершенно ясен, а ведь для того и служат слова. Она вздохнула с облегчением. В сентябре Чарли на четыре месяца поступил в бухгалтерскую фирму, услугами которой пользовалась Компания Мейсон, стал учиться основам делопроизводства и в новом году присоединился к отцу.
Чтобы поощрить усердие, с каким сын работал первый год в Компании, Лесли и посылал его теперь в Париж порезвиться, снабдив двадцатью пятью фунтами. И уж Чарли намерен был порезвиться вовсю.
Они уже почти приехали. Служители подносили багаж поближе к выходу, чтобы удобней было передать его носильщикам. Дамы делали последний мазок губной помадой, и им подавали меховые манто. Мужчины влезали в зимние пальто, нахлобучивали шапки. Близость, в которой все они просидели несколько часов, приятное тепло комфортабельного купе превратили их в некое содружество, отделило пассажиров пульмановского вагона с его особым номером от пассажиров всех остальных вагонов; но теперь общность распалась, и каждый человек или каждые двое-трое вновь обрели свое особое лицо, которое на время слилось со всеми остальными. В дымном воздухе, сдобренном запахом застоявшегося табака, резких духов, человеческого тела, в духоте парового отопления каждый вдруг напустил на себя некую загадочность. Вновь чужие, они смотрели друг на друга озабоченными невидящими глазами. Каждый ощущал смутную враждебность к соседу. Кое-кто уже выстраивался в очередь в коридоре, желая побыстрей выйти. От тепла в вагоне окна запотели, Чарли протер небольшой просвет и глянул за окно. Ничего он не увидел.
Ознакомительная версия.