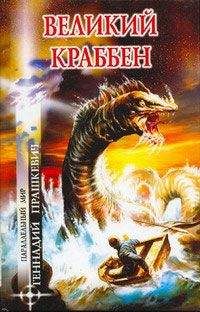Устав, немец присаживался перед очагом на корточках:
– Мне бы кочик да сто рублев.
– Да зачем тебе кочик? Куда плыть?
– Знаю один мертвый город.
– А мертвый город он зачем?
– Майн Гатт! Там идолы из золота.
– И что? Ничего больше?
– Ну, почему? Растения.
– Всякие вкусные?
– Нет, золотые.
– А дрова?
– Они тоже из золота.
– Так ведь гореть не будут!
– Майн Гатт! А зачем им гореть? Там без того жарко, девки нагишом бегают. Я по змеям ходил деревянной ногой, не боялся. Хитрая была у меня нога, – вздохнул. – Я ее изнутри выдолбил, как шкатулку. Золотые гинеи, дукаты, несколько муадоров там лежало. Тяжелая нога, но терпел.
– Ну, будь сто рублев, что бы купил?
– Не знаю… Может, девке нашей калачик…
– Да где бы ты тут купил? – сердилась Алевайка.
Намекала нехорошо:
– Значит, девки там нагишом бегают?
И не выдерживала, переходила на крик:
– А как там у них с северным сиянием? Не тревожат ли белые медведи?
Но все же боялась немца, отодвигалась, хотя у Семейки тоже рука тяжелая.
А вот ежели допустить, что Бог может создать одного человека только для того, чтобы он все делал как бы из любви к аду, то прежде всего это, конечно, одноногий. Вон и нож завсегда при нем. Ругала его, но гладила ладошкой по голове. И ефиопа гладила, как маленькую черную собаку. Сердито щипала Семейку: «Ты какой припас за меня взял, а? Приказчик-то тот, как сноп, трепал меня». И перекидывалась на немца: «Ну, вот зачем ты повесил приказчика? Пусть бы лучше у нас пьяный валялся в чулане».
– Каждому свое, – играл немец волнистой шеффилдской сталью.
А ночь.
А пурга.
А воет ветер, слепит глаза.
В темной пене меж отодранных течением льдин шипят бабы-пужанки, ругается тинная бабушка, передвигаемыми камнями пугает глупых морских коров, водоросли везде разбросаны, как зеленые мокрые косы.
Аххарги-ю ликовал: никакого разума.
А Семейка вдруг натыкался на округлый живот Алевайки.
Конечно, девка сразу пунцовела, задерживала на животе мужскую ладонь.
«Сын родится», – тянул свою руку и немец. Семейка его руку не отталкивал, пусть. Но сердился: «Вырастет, зарежет тебя».
Аххарги-ю беззвучно смеялся.
Вот радость для нКва, друга милого: кажется, его симбионты начинают делиться.
– Мне бы кочик да сто рублев, больше и не надо, – немец сердито поглаживал то Алевайкин живот, то свою отсутствующую ногу.
Жаловался:
– Реджи Стокс на Тортуге зашил в пояс украденные у товарищей сорок семь бриллиантов. Мы потом страстно желали повесить его сорок семь раз. Но такое даже нам не удалось. Задохнулся с первого раза.
Вздыхал глубоко: «Интересно жили».
14.Разговаривая с коровами, Алевайка увидела темное на берегу.
Две звезды в небе, ленивые полотнища северного сияния, черная полоса незамерзающей воды вдоль берега, и что-то темное. Волнуясь, крикнула Семейке:
«Что там?».
Тот спустился с обрыва, обогнав одноногого.
Но и немец приковылял вниз. Для верности держался за ефиопа и вдруг затрепетал:
«Майн Гатт!»
Длинная темная волна, бутылочная на изломе, медленно набегала на берег, взламывала нежные игольчатые кристаллы, строила острые безделушки. Аххарги-ю в бездонной выси свободно распахивался на весь горизонт. Наконец-то, финал! Сейчас неразумные убьют друг друга. Тогда можно будет покинуть Землю.
Хитрыми морскими течениями (конечно, не без помощи Аххарги-ю) вынесло на остров потерянную деревянную ногу. Даже Семейка, брату старшему ни в чем не веривший, помнил, что эта якобы пустотелая нога набита дукатами, гинеями, там должно быть даже несколько золотых муадоров, но специальную пробку давно вытолкнуло соленой водой – золото рассеялось по дну морскому, бабы-пужанки им играли.
И ремни, конечно, попрели.
Но это ничего. Немец так и крикнул Алевайке:
«Из твоей коровы ремней нарежем».
Девка заплакала.
«Майн Гатт!»
Немец вынул руку из пустотелой деревянной ноги и холодно в полярной ночи, под полотнищами зелеными и синими, как под кривыми молниями когда-то на Ориноко, блеснул чудесный алмаз такой чистой воды, что за него целое море купить можно.
«Что я еще могу для тебя сделать?» – странно прозвучало в голове.
С неким поистине мрачным торжеством.
Будто ударили в колокол. Или откупались.
Немец враз обернулся, но рядом стоял только ефиоп.
Через шаг стоял – Семейка. А на обрыве сидела девка. Вот и все.
Но подумал про себя, как бы отвечая кому-то неведомому: «Да что теперь для меня сделаешь? Нож, женщина, брат – все есть у меня. Ну, а кочик летом сами построим. Зиму бы пережить».
Поднял голову.
Звездные искры над головой.
Раскачивает сквозняком зеленые шлейфы.
Как в детстве вдруг защемило сердце. С трудом вскарабкался на обрыв, сел рядом с Алевайкой, обнял ее, заплакал. Слева Семейка, вслед поднявшись, весь запыхавшийся, обнял сильно потолстевшую девку. В ногах ефиоп лег. В мерзнущих пальцах немца – чудесный алмаз, вынесенный порк-ноккером из мертвого города. Искрится. Завораживает. Может, этот камень – одна из сущностей симбионтов? – вдруг заподозрил Аххарги-ю. Может, такая сущность не уступает его собственным тен или даже лепсли?
Что-то смутило его в этом внезапном единении.
А Алевайка взяла руку Семейки и руку немца, в которой он не держал алмаз, и сложила их на своем круглом животе.
Ефиоп спросил: «Абеа?»
А из воды тянула толстую морду корова, простодушно сосала холодный воздух.
«Сын будет…»
Полуземлянка за спиной.
Белый дым крючком в небо.
С чудесной ледяной высоты Аххарги-ю видел, как будто бы сама собой сжалась крепкая рука немца на рукояти ножа. Вот какие красивые, какие глупые симбионты, беззвучно смеялся Аххарги-ю. Всеми своими сущностями смеялся. Сейчас один разбойник зарежет другого, чем окончательно утвердит их всеобщую неразумность.
Собственно это и было главным условием освобождения нКва, друга милого.
Сверкнет нож, упадет алмаз, вскрикнет девка. А на уединенном коричневом карлике друг милый нКва ласково оплодотворит живые споры, разбросанные и по разным другим удобным местам.
Аххарги-ю ликовал: полная неразумность!
Сбыв с Земли трибу Козловых, можно приниматься за Свиньиных.
А там дойдем до Синициных, до Щегловых, вообще до Птицыных – много дел на планете Земля. Пусть пока пляшут у горячих костров и строят воздушные замки. Ишь какие! Здоровье рыхлое, а свирепствуют.
Звезда сверкнула под полотнищами северного сияния.
Девка вздрогнула, кутаясь в соболиную накидку. Нежно повела головой, толкнула немца заиндевевшим плечом. «Майн Гатт!» Волнение немца передалось Семейке. Маленький ефиоп тоже приподнялся на локте. Так замерли, прижавшись друг к другу. Полярная ночь перед ними, как жабрами, поводила северными сияниями. В их свете Алевайка – круглая, вохкая. Закоптилась при очаге, смотрит как соболь. Зверок этот радостен и красив, и нигде не родится опричь Сибири. Красота его придет с первым снегом и с ним уйдет.