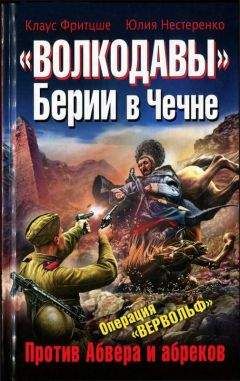Степан и Катя, взявшись за руки, шли притихшие, взволнованные, безгранично счастливые. Им не хотелось ехать в троллейбусе — казалось, что яркий свет, суматоха развеют, вспугнут безмятежное настроение. Они шли, сами не зная куда, им хотелось, чтобы эта дорога была бесконечной.
Лишь изредка они перекидывались незначительными фразами, но это молчание для них было дороже потока слов. И то едва заметное чувство смущения, которое лежало еще между ними, постепенно исчезало, уступая место хорошему, теплому чувству близости.
Начавшийся дождь загнал их в одну из беседок Комсомольского парка.
Все было милым, все было хорошим: и то, что ночь мягко кралась над землей, и то, что тяжелые, теплые, вовсе не осенние капли дождя шелестели в ветвях и шептали о чем-то, все, все было таинственным, прекрасным, милым навсегда, как бывает милым и навсегда дорогим все первое в жизни.
— Катя!
— Что, милый?
Степану хотелось сказать очень многое, но он лишь прижал ее руку к своей груди и неожиданно для себя произнес фразу, которую давно избегал, считая ее неновой и ненужной, но которая и для него и для нее прозвучала сегодня, как песня:
— Я люблю тебя. Катя!
Она ничего не ответила, прильнула щекой к его плечу и всхлипнула по-детски, улыбаясь сквозь слезы, сама не зная отчего. Он встревожился, стал гладить ее по волосам и так нежно старался успокоить, что Катя почувствовала: да, это он, ее любимый, с которым нигде и никогда не страшно; он, ее суженый, рядом с которым она пойдет на подвиг, на смерть, с которым будет делить все — и радости, и печали.
— …Нет, нет, милый, я на тебя ни за что не обижаюсь… Ты не обращай внимания — это просто так. Я не буду: вот видишь — уже смеюсь… Да, я получила твои письма, хотя с опозданием. Видишь — даже встречать тебя вышла, словно знала, что именно сегодня ты вернешься…
Она умолчала о том, что вот уже целую неделю каждый вечер долгие часы простаивала в вестибюле вокзала, встречая ленинградский поезд. Не рассказала она и о том, как тяжело ей было в последние дни, когда все в мире сделалось печальным и бесперспективным. Ей давно уже хотелось спросить: "Степа, что такое саркома? Ее можно вылечить?" — но она не спрашивала, суеверно полагая, что заговорить о болезни в этот вечер, — значит навсегда вспугнуть свое счастье. А так хотелось, почувствовав себя маленькой, беспомощной, склонить голову на плечо Степана и пожаловаться, что доктора пугают ее операцией… Но нет, не надо говорить об этом, пусть когда-нибудь позже…
— Степа… — она подняла голову и коснулась щекой его щеки. — Степа, можно ли будет помогать тебе? Я буду смотреть в микроскоп, у меня глаза зорче, чем у тебя, хочешь?
— Хочу, Катя, хочу… — Он улыбнулся, погладив ее по голове. — Но в микроскоп почти не придется смотреть — ведь это ультравирусы.
Заметив, что Катя огорчилась, он быстро добавил:
— Но ты мне, безусловно, поможешь. Поможешь даже тем, что будешь верить в антивирус… Ведь ты веришь мне?
— Я верю тебе, милый! Я буду всегда верить в тебя!
"ДРУЖБА — ВРОЗЬ!"
Они столкнулись на пороге деканата.
— Коля!
— Здорово, Степа! А ты, брат, того… — Николай сжал пальцами щеки, показывая, как исхудал Степан. — Почему не писал?
— Да потому же… — Степан засмеялся. — А ты хорошо выглядишь.
— Да? А впрочем, я всегда такой. Это ты — злюка. Ругаться больше не будем? Я тебе такой сюрприз приготовил! Мы с Великопольским…
Степан насмешливо протянул:
— О-о… Уже вы с Великопольским?
— Ну, пусть просто я под его руководством. Это я из скромности. Одним словом, установлено, что биоцитин значительно увеличивает инкубационный период, то есть тормозит первичный процесс. Мы с Антоном Владимировичем…
Степан слушал со все возрастающим чувством раздражения. Хотелось крикнуть: "Коля! Друг! Да пойми же, что это фальшивый путь! Так уйдет молодость, уйдут силы и — ничего не будет достигнуто".
Но словами тут не поможешь. Злясь на себя, что пока не может доказать своей правоты, Степан протянул руку:
— Ну, прощай. Я должен итти.
Отойдя несколько шагов, он добавил, не глядя на Колю:
— Я сегодня вечером приеду к тебе забрать вещи — мне дали место в общежитии.
Николай ответил подчеркнуто сухо:
— Хорошо.
День прошел в бестолковой и ненужной суете. Степану пришлось долго разыскивать коменданта общежития, писать заявление и расписки, — все это было утомительным и скучным, а главное — отняло много времени. К профессору Кривцову Степан выбрался только к вечеру, но не застал дома.
Через час он уже сидел в уютной, до мелочей знакомой комнате Николая Карпова. Было тягостно и неловко. Антонина Марковна огорчилась, узнав, что Степан уходит в общежитие.
Коля угрюмо молчал. Он передал Степану пачку писем и отвернулся. Сверху лежало письмо от Тани Снежко.
Степан спросил:
— Ну, что пишет Таня?
Николай промолчал. Таня ему не писала. Он помог Степану собрать вещи и, лишь выйдя из дома, хрипло спросил:
— Значит, дружба — врозь?
На этот раз промолчал Степан.
— Неужели нельзя иметь разные взгляды и оставаться друзьями?
— Нельзя! Ты, Коля, ошибаешься, и я докажу тебе это!
— А если я докажу противоположное?
— Докажи!
Они стояли посреди тротуара, почти с ненавистью глядя друг на друга.
Наконец Степан протянул руку:
— Коля, я знаю: мы вновь станем друзьями… Но скажи, сможешь ли ты сейчас выкроить время, чтобы помогать мне в исследовании свойств одного интересного вируса? Ведь я так и не рассказал тебе, что мне удалось достать несколько кубиков сыворотки больного болезнью Иванова — очень редкой и странной болезнью.
Заметив, что Николай хочет возразить, Степан добавил:
— Не думай, что я прошу тебя для того, чтобы перетащить в свою веру. Мне действительно будет очень тяжело одному, а ведь ребята возвратятся не раньше, чем через месяц… Поможешь?
Карпов кивнул головой.
Остаток пути они шли молча, но, расставаясь, крепко пожали друг другу руки.
Писем было много, со всех концов Советского Союза, но Степан прежде всего набросился на письма Тани Снежко. Их было четыре.
Очень подробно Таня рассказывала о дорожных приключениях, о первой ночи в тайге, о медведе, который оказался коровой.
Второе письмо было гораздо короче и тревожнее: Таня сообщала, что прошло уже много времени, а результатов никаких. Заболели три человека из состава экспедиции. Лена Борзик провела на себе глупейший "комариный эксперимент".