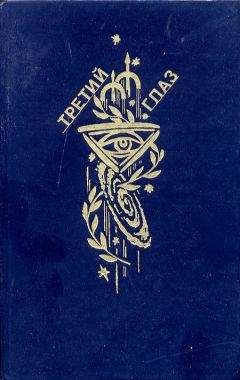– Видите, – сказал Вербицкий, – какой я искренний.
– Вижу и люблю вас за это, – томно произнесла Евгения. – Ведь неискренность – это ненастоящее, рассудочное, искусственное. Вы же знаете, я исповедую даосизм, я даоска до глубины души.
Ну, началось, с тоской подумал Вербицкий. Вот прямо только что от Даодэцзина.
– Мне казалось, вы тоже к нему склонны. Но вы только пишите и бегаете по издательствам. А есть вещи, которые обязан прочувствовать каждый культурный человек.
– Да, конечно, обязан, – сокрушенно признал Вербицкий. Но вот... Дао кэ дао фэйчан дао, – нараспев сказал он, – мин кэ мин фэйчан мин... Вот вы это, наверное, понимаете.
– Я – ни в какую, – Евгения захлопала глазами.
– Наверное, потому что вы читали не по переводам... Кстати, как "дао" пишется?
Евгения опять загадочно, но как-то бледновато, улыбнулась и прикрылась бокалом.
– Бесполезно искать спасения в лабиринтах знакомых систем, – раздался голос сзади, и Вербицкий обернулся. Это был поэт Широков – кареглазый, давно не мытый красавец с вечными напластованиями перхоти на плечах. – Дао не знак. Дао – мироощущение. Единственно творческое восприятие мира. Слияние со всем миром сразу и спонтанное познание всей его самости внутри себя. Человек, осознавший дао, становится тотальным творцом уже непосредственно из акта осознания. Он может сказать о себе: я художник. Пусть я не умею рисовать. Я не срифмовал и двух строк – но я поэт. Я философ, хотя не читал ни одного трактата и читать не умею и не хочу. Понимаете вы?
– Да... – ответил Вербицкий, изображая мыслительное усилие. – Я знатный сталевар, герой социалистического труда, хотя всю жизнь только лазию на Фудзияму и обратно... Правильно?
– Вы идиот, – надменно сказал поэт и удалился. Ляпишев загоготал и показал Вербицкому большой палец.
– Вы действительно нынче не в настроении, – заметила Евгения и улыбнулась с кошачьим коварством. – Что вам все-таки наговорил Косачев?
Вербицкий пожал плечами и побрел к столу.
Доктор наук Вайсброд, вздумавший на склоне лет написать назидательный роман из жизни советских ученых, смирно кушал диетический салат. Его лысина блестела в свете свечей. Вот за это меня не любят, подумал Вербицкий, за то, что сей гриб старый принес рукопись именно мне. Как-то вышел на меня, попросил прочесть и, если сочту возможным, подыскать площадку... Конечно, я ему не скажу, что получился у него пшик. Казалось бы, парадокс – сорок лет старец в своей науке, вроде, без всякого таланта и без всяких выкрутас мог бы просто интересно рассказать. Но нет – розовая вода, и даже не понять, чем они там, в сущности, занимаются. Слишком хорошо доктор знает, сколько неприглядного быта в его, видимо, любимой науке; слишком много острых углов пришлось обходить. Морщинистое дитя застоя...
Где время, когда душа кипела, а первая страница столистовой тетради в клетку молила: возьми! вспаши! И обещала то, чего никто, кроме меня, не знает, и не узнает никогда, если я не увижу и не расскажу; вспыхивали миры, оживали люди, копеечная ручка была мостом в иную Вселенную... Белая бумага! Как вы не слышите, она же кричит: вот я! Укрась меня самым чудесным, самым нужным узором: словами. Драгоценными, звенящими, летящими словами. Спасающими словами. Побеждающими смерть, убивающими боль, знающими мудрость!
А едва дописав главу, бежал через улицу к Андрюшке и читал вслух, а он слушал, разинув рот, и подгонял... и пытался советовать, лопушок... Где-то он сейчас? Переехали мы тогда – и концы в воду, хотя город тот же; город тот же, да мы другие. Наверное, инженерит теперь, телевизор смотрит, дремлет, накрывшись газеткой...
– Вы не заскучали, Эммануил Борисович?
Вайсброд поднял голову – блеснули его очки, челюсти еще двигались, и маленький рот то выявлялся, то западал среди морщин и дряблых, вислых щек.
– Я опоздал, извините, – продолжал Вербицкий. – Как вас тут встретили?
– Чрезвычайно радушно, – ответил профессор, аккуратно и без спешки проглотив прожеванное. – Я очень признателен вам, Валерий Аркадьевич. Я услышал много интересного. К тому же мне довелось познакомиться с вашим другом, поэтом Широковым. Я кое-что читал и с уважением отношусь к некоторым его стихам.
– Приятно слышать, – с мгновенной старательной улыбкой ответствовал Вербицкий. – Смычка физиков и лириков есть давно назревшая процедура...
Какой бред, подумал он и неприкаянно двинулся обратно – но Ляпа, и Шир, и дура Евгения уже шли навстречу. На столике у тахты все кончилось, и троица летела на дозаправку.
– ...Провались с концепциями, – договорил Ляпишев и шлепнулся в кресло. Пригубил, потом закурил. – Ты не права, – уже расслабляясь, произнес он и снисходительно поболтал сигаретой. Малиновый огонек выписал сложную петлю, развесив по густому черному воздуху слои дыма. – Просто мировое сообщество закономерно поднялось на принципиально новую ступень организованности. Раньше придумывали богов, потом чудодеев, гениев... Чудо-деи исчезли, гении исчезли... что говорить, Бога и того не стало! А ведь только авторитет божественности служил гению защитой от давления мещанской массы...
– Трепло, – сказал Шир, но Ляпа крутнулся вдруг, чуть не угодив сигаретой ему в глаз, и крикнул:
– Нет, не трепло!
– За всех не говорите! – заорал, тоже сразу заводясь, Шир. – Гениям на вашу экономику начхать!
Ляпишев озверело ткнул сигаретой в скатерть, мимо пепельницы, и размял, размазал ее пальцами. Казалось, он сейчас заплачет. Но он лишь снова закричал:
– Право на самостоятельное осмысление отобрано у художника навсегда! Введение в культуру новых сущностей может производиться только государственной администрацией! Тему дает она!
Слабый, испуганный, голый человечек... Стадо человечков. Им голодно и холодно в вонючих пещерах. Ничего не понимают, всего боятся. Все обожествляют. Это они придумали! Малевать на стенах, высасывать из волосатых грязных пальцев сказки и песни... Зачем? Слабость ли была тому единственной причиной? Уже тогда требовалось обманывать, измышлять нечто более высокое, нежели каждодневное прозябание. Слабость!!! Сон золотой. Духовный новокаин. Позор! Мы не станем больше лгать!
Мы честны. Мы суровы в наш суровый рационалистический век, мы перестали приукрашивать и навевать сон. Даже лучшие из нас – грешники, говорим мы, и худшие из нас – святые... Кто? Моэм. Мы обнажаем в доброте – трусость, в мужестве – жестокость, в верности – леность, в преданности – назойливость, в доверии – перекладывание ответственности, в помощи – утонченное издевательство. Да, но тогда исчезает наш смысл, и мы остаемся в пустоте, ибо вдруг видим: нуждаются в нас не потому, что мы сеем Доброе, а потому, что Доброе мы вспороли, открыв на посмешище и поругание его дурнотное, осклизлое нутро; нуждаются в нас не те, кто нуждается в Добром, а те, кто нуждается в его четвертовании, то есть наши же собственные вековечные враги!