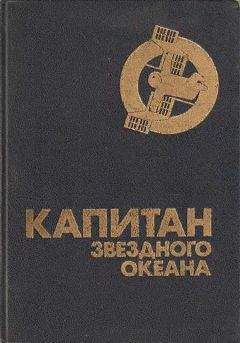Опасный вопрос! Будто на дыбу вздернули фамулуса, точно щипцами раскаленными коснулись спины. «Сей человек, возможно, шпион, подосланный пронюхать об устоях его, фамулуса, мировоззрения, о нутре духовном. Но кто подослал? Донес кто? О господи, завистников, доносчиков — что звезд на небе в ясную ночь».
— Пропади они пропадом, Аристархи — Плутархи! — вскричал фамулус, морщась, будто терзаемый зубной болью. — Нечего честным людям голову морочить ересью! — И удалился, раздосадованный.
Иоганн Кеплер выглянул в окно. Солнечные часы заслонила уродливая громада трапезной. Над островерхими крышами виднелись лишь голова и рука святого Евтропия. Почудилось Иоганну, будто святой подмигнул ему с высоты надземного величия. Кеплер перевел взгляд на гномон[11]: на истершихся булыжниках лежала тень, короткая, как персты господина проректора.
Проректор Факториус восседал за резной кафедрой под распятием творца. По обе стороны от распятия покоились в креслах ученые мужи, облаченные в мантии с меховой опушкой, — достопочтенные патриархи астрономии, медицины, геометрии, физики, светила богословия. Там, где перекрещивались их осуждающие взоры, стоял недостойный Иероним фон Ризенбах. Был он кудряв, розовощек и широкоплеч, обличьем подобен пахарю иль кулачных дел бойцу.
— Прежде чем развенчать ересь, — заговорил проректор, — мы вознамерены явить всей академии предосудительность утверждения, будто Земля обращается вкруг самое себя и несется к тому же вкруг Солнца. Подобное утверждение абсурдно и противоречит основам христианской веры. Ибо сказано в священном писании: «Да будут светила на тверди небесной, для отделения дня от ночи, и знамений, и времен, и дней, и годов. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на Землю». Ибо сказано в псалтыри: «Ты, господи, поставил Землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки!» Ибо в библии сказано о небесах: «Тверды они, как литое зеркало». Вам ли, бакалавр Ризенбах, ослепленному гордыней, покушаться на премудрость божию, коя освящена столетиями! Вам ли восставать против самого Аристотеля!..
Ризенбах в окошко косится, святого разглядывает Евтропия.
— Довольно по сторонам пялиться, герр Ризенбах! Вы не на пирушке, а в стенах академии! — сердится проректор Факториус, нетерпеливо ногами притопывает. Всей зале видны проректорские сафьяновые сапожки с острыми, как серпик молодого месяца, носками. — Профессор Мэстлин, извольте приступить!
Нос у Мэстлина огромный, шишковатый, щеки лиловые, всклокочена борода. «Ну и физиономия, ни дать ни взять разбойник с большой дороги», — подумал Иоганн.
Профессор поднимается, распахивает фолиант в коричневом переплете. Затем надевает очки, откашливается и вдруг набрасывается на латынь, сокрушая ее железным молотом скороговорки:
— «Вселенная состоит из девяти соприкасающихся сфер. Наружная сфера, небо, обнимает все остальные. Это — верховное божество, которое их содержит и окружает. В небе укреплены звезды, и оно уносит их в своем вечном движении. Ниже катятся семь сфер, увлекаемых движением, противоположным движениям неба. Первую из них занимает звезда, которую люди зовут Сатурном. На второй блестит то благодетельное и благосклонное к человеческому роду светило, которое известно под именем Юпитера. Потом — ненавистный Марс, окруженный кровавым сиянием. Ниже Солнце, царь, повелитель других светил и мировая душа; страшной величины его шар наполняет своим светом беспредельное пространство. Его сопровождают сферы Меркурия и Венеры, составляющие как бы его свиту. Наконец, ниже всех Луна, заимствующая свой свет от Солнца. Под нею — все смертно и тленно. Над нею — все вечно. Земля, помещенная в центре мира, наиболее удаленная от неба, образует девятую сферу; она неподвижна, и все тяжелые тела падают к ней в силу собственной тяжести…»
Герр профессор оторвался от фолианта, вверх, к потолку простер руку, как бы намереваясь недостойного Ризенбаха проклясть.
— Земля, помещенная в центре мира. Слышали? Внемлите же, Ризенбах, гордынею обуянный! Внемлите и ответствуйте: чьи дивные слова зачел я пред вами?
Потупился недостойный Иероним, вся премудрость древняя вмиг улетучилась из памяти.
— Кому ведомо, чьи провидческие слова зачтены? Молчит, молчит вся академия, посрамлена профессором астрономии и математики!
Сам герр проректор седую голову склонил ниц, потирает на мизинце яхонтовый перстень.
— Спрашиваю, бакалавры: слова провидческие чьи?
— Марка Туллия Цицерона, — негромко произносит со своей скамьи первокурсник Кеплер.
— Воистину так: Цицероново изречение относительно системы Птоломея, — соглашается профессор. — А вы, Ризенбах, что противопоставляете божественной картине мироздания, всей гармонии Птоломеевой?
Тряхнул кудрями каштановыми Иероним, выпалил, словно в омут с головой бросился:
— Земля обращается вкруг самое себя и проносится вкруг Солнца подобно всем иным планетам.
— Какие доводы приведете в оправдание сей чепухи несусветной?
— Доводы приведены в сочинении господина Коперника, каноника[12] из Фромборка.
— Каково название сочинения?
— «О круговращениях небесных тел».
— Каким путем попало сочинение к вам в руки? — допытывается профессор.
— У нищенствующего монаха приобрел, на торговище. За один рейнский гульден.
— Грош цена писаниям вашего Коперника! — взрывается герр проректор, нервно теребя пальцами Гиппократов рукав[13]. — Инквизиционный трибунал позаботится, дабы он понюхал, чем пахнет отлучение от церкви.
— Каниник скончался лет уж сорок назад. И пред кончиной доказал движение Земли, — выкладывает начальству недостойный Иероним.
Эх, дал маху, опростоволосился проректор: каноника, давным-давно почившего, вознамерился волочь в трибунал. Шепоток прошумел по зале, там и сям прыскают в кулак. Мэстлин зазвенел в медный колокольчик, а Факториус сызнова перстень разглядывает.
Мэстлин. Утихомирьтесь, господа… Бакалавр Ризенбах, попытайтесь опровергнуть по меньшей мере четыре довода, свидетельствующие против движения Земли. (Косится в книгу.) Итак, начнем. Наши глаза — свидетели, что свод небес обращается вокруг Земли в 24 часа. Отчего же движение Земли нечувствительно для нас? Почему его трудно себе представить?
Ризенбах. Здесь происходит то же, что при езде в повозке или на корабле. Едущему всегда кажется, будто он сидит неподвижно. Между тем его глаза — свидетели, что деревья, строения, берега бегут мимо. Но разве легко представить себе деревья, бегущие стремглав, наподобие зайцев?