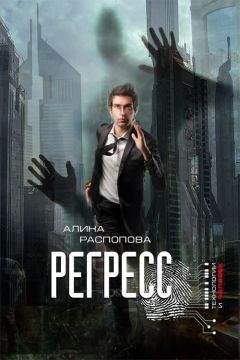Но хватит валяться!
Арвид встал, прислушался к похрапыванию Джерри в соседней комнате. Невольно он поискал глазами футляр со скрипкой. Вот он, лежит. Да, что ни говори, не всякому удается в четырнадцать лет обладать инструментом, застрахованным на полмиллиона, инструментом, к которому приставлен личный телохранитель… Интересно, мог ли да Сало, великий ломбардец, чьи кости вот уже четыре столетия тлеют в склепе собора Дуомо Веккио, предугадать, что сотворенная его руками скрипка переживет своего создателя на века, что будет она дарить радость людям в далекой стране, открытой славным генуэзским мореходом всего за несколько десятилетий до его рождения? Арвиду хотелось думать, что знал: ведь это такое счастье — знать, что даришь людям радость!
Он быстро сполоснулся под душем, выпил стакан апельсинового сока, не забыв перевести акустику бара на «интим», чтобы тот своим зычным голосом не разбудил Джерри. И только опуская на вощеную столешницу стакан, вспомнил вдруг главное: ведь это утро — утро победителя! Он, Арвид Грейвс, — победитель. Утро победителя — какая все-таки сладость в этих словах… Вот, значит, почему он проснулся так рано — чтобы не пропустить рассвет этого утра. Арвид взглянул в окно. За окном была еще ночь, но ночь обреченная, ночь, притихшая перед неизбежным приходом рассвета. Его еще не было видно, но что-то подсказывало, что он уже приближается, он уже близко, он вот-вот…
«Как я люблю все это, — подумал Арвид, — как я люблю этот мир, мир, в котором я живу, как я люблю людей этого мира — Джерри, похрапывающего за стенкой; Кэтрин, которая уже, наверное, проснулась и бежит сейчас па пляж; учителя Каротти… Учитель, вы слышите, учитель? Я не подвел вас! И я сделаю еще очень и очень много, потому что я ваш должник, и я должен отплатить вам лишь одним — игрой, настоящей игрой. Отплатить вам и всем остальным, кого я помню и люблю. Аните, которая пела мне колыбельные песни. Анита, я не знаю, где ты сейчас, но ты была мне как мать, потому что я не знал другой матери, я никого не знал, ни матери, ни отца, у меня не осталось никого, когда мне не было и нескольких месяцев, и сперва за всех мне была ты. А потом пришли другие, пришел в мое сердце доктор Хотчич, пришел учитель Каротти, пришла Кэтрин, у которой тоже никого больше нет, кроме всех вас — и меня. Ни у кого из нас там, в интернате, нет родных, мы все остались сиротами в младенчестве, но у нас есть ваша любовь. И, значит, мы живем в мире, который по-настоящему добр, если нас окружают добрые люди…»
Повинуясь безотчетному порыву, Арвид подошел к столу, погладил рукой мягкую черную кожу футляра, потом щелкнул замками, открыл, прикрепил мост и, вскинув скрипку к плечу, радостно ощутил щекой ласковое, прохладное прикосновение лакированного подбородника. Легким, замедленным движением он провел смычком по пустым квинтам, чутко вслушиваясь в серебристые звуки Скрипка спустила строй совсем чуть-чуть, и он несколькими ловкими движениями, едва касаясь колков, настроил ее. Руки двигались сами, ухо само ловило оттенки звучания струн, а он словно бы оставался в стороне, погруженный в смутно зарождающееся ощущение…
Он повернулся и посмотрел на ночник, на бесконечно рушащуюся тяжкую массу воды и вдруг понял, что там, за водопадом, она только кажется спокойной. Нет, она лишь отдыхает, эта река, отдыхает — до следующего броска вниз с красной, трещиноватой гранитной скалы.
И снова все получилось как будто само собой: сам ударил по cтрунaм смычок, сами забегали по грифу, меняя позиции, пальцы, а он, Арвид, плыл тем временем по реке, и высокие, скалистые берега все сжимались, стискивая русло, и без того неистовый бег потока еще ускорялся, ускорялся, и вот уже масляно закружились вокруг перевернутые вниз смерчи водоворотов, и повисла впереди радуга, манящая, обещающая тому, кто пройдет под ней, что-то удивительное, радостное и по-детски ясное, как она сама… И он промчался под этой радугой, промчатся в падении, которое было полетом, а может быть — в полете, который оказался падением, и снова кипела вокруг вода, она была как взмыленная лошадь, у которой бурно вздымаются бока и срываются с губ хлопья пены, но которая все же пришла первой, которая все-таки победила и которую теперь конюхи медленно водят по кругу, потому что остановиться — значит умереть… И вода тоже умеряла свой бег, и берега расступались, и струи делались все светлее и прозрачнее, и там, в глубине, вокруг скатанных, гладких камней плясали в них солнечные рыбки, чем-то похожие на ныряющую Кэтрин…
За окном медленно нарождался день. Небо незаметно светлело на востоке, а на западе, словно упорствуя и не желая отступать, сгущалась тень, но и она, эта тень, должна была растаять через те считанные минуты, что оставались еще до восхода. Начиналось утро победителя.
Победитель стоял посреди гостиничного номера, устремив взгляд на струящийся по пластиковому абажуру водопад, а навстречу ему бросал феерические каскады «Дьявольских трелей» Тартини.
И он не слышал, как за спиной его тихонько звякнул приемник пневмопочты и на лоток упали первые выпуски утренних газет.
1975