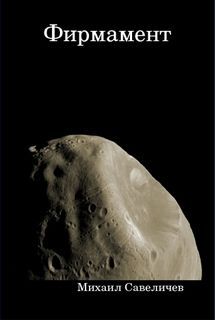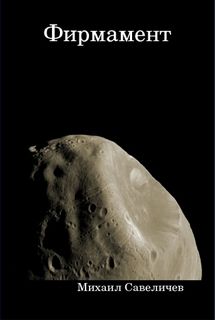Вспышка, и ты бредешь по нескончаемым коридорам в стылом потоке утренней вентиляции среди задубевших механических фигур с застывшими масками лиц, вброшенных в случайность смеха, равнодушия, тоски, горя, удивления. Монтаж еще не дошел до них, ты единственный несчастный, очутившийся в прошлой или будущей картинке живой судьбы.
Вспышка, и ты сидишь в медленно вращающейся карусели металлических лавок и столов, упирающихся в бесконечность туманных времен, не заполненных сонливым воображением, перед бесформенными емкостями разнообразной хлореллы. Хлорелла вареная, хлорелла пареная, хлорелла свежая. Меню на все времена, тонкий мотивчик подлого выбивания в очередной безрадостный сюжет одиночества. Нечто протестующее отыскивает в безвкусице горечь слипшейся, непрожаренной массы, конструкта случайной мысли, натягивающей на убогость дешевых подпорок синий щит далекой Панталласы, прибежища силурийских чудовищ, готовых раздумьями будить в стекле разума ярость древних инстинктов, если в человеке-машине еще есть тлеющий запал, пронесенный сквозь астрономические единицы Ойкумены в бездну правды вечного океана. Целлулоид исцарапанной пленки рвется, и спасительный просвет вспухает пузырением наведенного изображения, встроенного в голове проектора, и душа с облегчением рушится сквозь воспоминания и припоминания безбожных небес в сумасшедший шепот соседа:
- Никто не смотрит вверх, никто не отрывается от разглядывания кончиков своих ботинок в проклятье монтажа выдуманной жизни. Даже самые ничтожные уверены в том, что они существуют, что они не случайные царапины на диске Ойкумены, что игла извлекает и из них гармонию хрустальных сфер. Небеса рушатся, но никто не заметит свою смерть, зачитывая в собственной гибели все ту же главу Книги мертвых. Все слишком привыкли к неизменности Крышки, чтобы разглядеть в складках созвездий собственный рок. Судьбы они не достойны...
- Редкое слово - созвездие, - ответил Кирилл, пожалуй не понимая вершащееся волшебство кармы.
- Как будто оно для тебя что-то значит, - пробурчал случайный сосед.
- Ничего.
Тот вздохнул.
- Я, кажется, помню то время, когда созерцание Крышки еще не выглядело безумием. Фальшь была только манящим невинным обманом, сродни магии представления, где исчезновение предметов оказывалось ловкостью психологии, но не смертью. И мне одному видится конец всех времен. Хотя, почему это должно быть обставлено грандиозным представлением? Кто будет лицезреть конец Ойкумены? Великие спят в саркофагах, накаченные купленными грезами, малые силы возятся в грязи, чтобы забыть, если повезет, кошмар пробуждения. Кто остается? Добытчики космического жемчуга? Рудокопы Внешних Спутников?
Внезапность монтажа обрывает разговор, но индуцированное волевое усилие затормаживает Кирилла в пустоте кайроса, размазывает его по пустыне жизни миллиардами глаз и всеми оттенками фобий, пороков, реинкарнаций, выкручивает привычность бытия в невозможную одновременность интервала - последнего прибежища инвариантности препарированной Обитаемости - от тромбозного сердца, судорожно бьющегося под черными пятнами близкой болезни, до ледяных пальцев планет и планетоидов, разъедаемых серебристой проказой гурма. Сквозь тихие трещины в обличии новой войны без новых правил под Крышку протискивалось окончательное небытие, тьма меона, формирующая новый порядок становления пределов Человечества. Вселенная пальпировала неудачный плод и жестокие зонды протискивались все глубже и глубже в гниющую плоть Ойкумены, вбрасывая стерилизующую мощь аргентума в скопления некрополя. Сосед был неправ в своей поддельной морщинистости псевдо-старости, словно кто-то был готов поверить в добровольный отказ великого от альтернативы неограниченной геронтократии.
Трезвон непривычной тревоги исторгал охотников за жемчугом из уюта наркотической матки монтажа в прозрачность и холод обескровленных жил Прозерпины, предупреждая о растекающихся по грязной поверхности последней, или первой планеты чудовищного лишая распухающего тумана с металлическими прожилками колоссальной метастазы, тянущейся к сморщенной и выболевшей плаценте отмирающей Крышки. Как-то жестоко нарушились все иллюзии масштаба, сгрудив Обитаемость в патологическую анатомию кровавой иллюстрации космологического аборта разума с полным букетом врожденных уродств инцеста материи и духа под жесткой радиацией мутагенной свободы. Забытые мечты сбывались в катастрофе изживания, когда отягощенная болезнь становилась космической силой, магнитом пробуждающейся бесконечности от невыносимой боли в нежной мантии искусственной жемчужины, обратившей слепое и равнодушное внимание к устоявшейся волне безвременья, запутавшегося в переборе вариантов, вбрасывающего сердца шестерых на зацикленное повторение ляпуновских тактов неизменного предания Человечества виртуальной смерти интерферирующей смерти.
Кто-то поставил неосмысленный опыт случайности любых реальностей, готовых проходить волновой невообразимостью по непригодным траекториям, извлекающих не смысл разума, потенцию всего и вся, а привычность квантовых уравнений, подтверждающих непознаваемость Геделя любых построений аморального неба, лишившего, оскопившего человечество божественного перводвигателя вспоминаемого мифа взлетающих и срывающихся в истине душ. Это оказалось самым важным - пребывать в истине, в усилии мысли, в утрудненной эстетике символических текстов, где каждая случайность дышала руническим уроком самовосстановления, сборки, концентрации, припоминания в бытии реальности текучих бессмысленностей, алогизма причинностей, навязчивого катарсиса древних трагедий.
Нельзя погибнуть и не измениться, остаться под камнем ограничивающих обстоятельств, болью сужающего перспективу до изуродованных артритом суставов и выхватывающего из нарастающего шума переселения народов единственное гармоническое начало всеобщего конца. Слишком примитивно пребывание под изъеденным оспинами метеоритов щитом планетоида в фирмаменте, простреливаемом тысячами и тысячами комет - предвестниц падающих небес - во все той же мгле паники, страха, ужаса, отвращения к разоблаченным и препарированным мифам прозрачности Ойкумены, за кровавой поволокой которой крылось столь длительно изживаемое ничтожество. Коридоры подземелий захлестывались тысячами беженцев, тяжелым духом дикого насилия, взрывающего животное перемирие общей катастрофы мгновенной волной необузданных фобии и агрессии, обращающих дебильных червей в разъяренных крыс, выгрызающих в безумном потоке кровавые островки освежеванных тел, затем неуверенно и медленно затекающих новыми и новыми порциями безликих нумеров искалеченной человечности.