— А он на что? — девочка дернула за руку брата. — Гансик, ты ведь дашь крови?
— Дам, — важно сказал мальчик.
— А я его потом колдовать научу. Так всегда делают. Когда я была невинным младенцем, старшие девочки у меня тоже кровь брали. Кололи палец и выжимали кровь…
Ганс не выдержал и расхохотался.
— Значит… когда ты была… невинным младенцем!.. А сейчас ты кто?..
— Я погибшая душа, обреченная геенне огненной, — личико девочки оставалось совершенно серьезным. — Господин священник говорит, что все, кто учится колдовать, губят душу.
— Вот что, погибшая душа, — сказал Ганс, — давай есть сухари. У меня еще много.
Он дал детям по большой корке и, когда они уселись рядом на траву, сказал:
— Брата твоего зовут Ганс, меня — тоже Ганс, а тебя как?
— Ее Лизой зовут, — объявил Гансик.
— Значит ты, Лизхен, очень хочешь быть невидимой?
— Нет, — ответила Лизхен, — просто это легче всего получается. Черных кур у трактирщика полно, а змеиную кожу в лесу найти можно. Это же не верблюд.
— Зачем тебе верблюд? — изумился Ганс.
— Будто сам не знаешь? Головы приставлять. Людвиг нашел у отца на чердаке медную лампу. Это же все знают: если намазать медную лампу верблюжьей кровью, а потом зажечь, то все, кого лампа осветит, представятся с верблюжьими головами и так будут ходить, пока не вымоешь лампу святой водой.
— Здорово! — признался Ганс. — Хотя я видел много верблюдов и еще больше медных ламп, а вот человека с верблюжьей головой ни разу не встречал.
— Так я и знала, что врут про головы! — в сердцах сказала Лизхен. — А вот ты лучше скажи, почему тебе птицы ягоды носят и совсем не боятся?
— А ты меня боишься?
— Нет, — призналась девочка. — Ты хоть и колдун, но не страшный. Ты добрый.
— Вот и они не боятся.
— А меня научи так.
— Хорошо, — сказал Ганс. — Я пока поживу здесь, ты приходи, я буду тебя учить.
— А мне можно? — ревниво спросил Гансик.
— И тебе.
— А Анне? Она внучка плотника Вильгельма.
— И Анне. Всем можно.
На следующий день они пришли ввосьмером. Кроме Лизхен и Гансика пришла долговязая девочка Анна, аккуратно одетый Людвиг принес знаменитую лампу, явился беспризорный бродяжка Питер — беглый ученик трубочиста, маленький и неестественно худой. Еще были два Якоба — сыновья подмастерьев кузнечного цеха, один из них вел двухлетнюю сестренку Мари.
Ганс к тому времени кончил копать землянку и собирался отдохнуть.
— Ого! — воскликнул он, увидев ребят. — Как вас много! Если так пойдет и дальше, то скоро весь город Гамельн переселится на мою поляну.
— Обязательно! — радостно отчеканила крошка Мари.
— А Гамельн большой? — с притворным испугом спросил Ганс.
— Очень, — подтвердила Лизхен. — Он больше Гофельда и Ринтельна. Только Ганновер и Ерусалим еще больше.
— Тогда в моей землянке все не поместятся…
— Мастер, — бесцеремонно перебил бывший трубочист, — покажите, как вы птиц приманиваете.
Ганс достал дудочку. Звонкий сигнал взбудоражил лес. Кто–то завозился на верхушке дерева, зашуршал в траве, замер, уставившись черными капельками глаз. Первыми с ветки дуба спорхнули два лесных голубя. Они опустились Гансу на плечо и громко заворковали, толкаясь сизыми боками. Питер сглотнул слюну, в его глазах мелькнул огонек. Голуби мгновенно взлетели.
— Мне можно? — спросил Питер.
Ганс протянул дудочку. Питер засвистел.
— Ничего… — растерянно сказал он.
— Ничего и не получится, — подтвердил Ганс. — Чтобы тебе поверили, надо быть добрым, а ты сейчас всего лишь голодный.
— Тогда пусть уходит и не возвращается, пока не поест, — решительно сказал Людвиг.
— Ты полагаешь, что это и есть доброта? — спросил Ганс.
Людвиг покраснел. Он развязал поясную сумку — вероятно, точную копию отцовской, достал оттуда два куска хлеба с маслом. Один протянул Питеру, другой, поколебавшись, разломил пополам и отдал Гансику и Мари, успевшим устроиться на коленях у Ганса.
— Это уже лучше, — улыбнулся Ганс.
Рыжая белка сбежала вниз по стволу, прыгнула на руки Гансу, уселась столбиком, потом ухватилась лапками за кусок хлеба, который держал Гансик. Гансик засопел и потащил к себе хлеб вместе с белкой. Белка зацокала.
— Тише, тише, — сказал Ганс.
Он отломил от куска корочку белке, остальное вернул мальчику. Мир был восстановлен.
— Его так не боятся, хоть он и жадный, — с завистью протянул Питер, облизывая масленые пальцы.
— Выходит, не такая простая это вещь — добро, — сказал Ганс. — Вот мы сейчас и подумаем вместе, каким оно может быть. Без этого у нас с вами ничего не выйдет.
Разговор затянулся на весь день. Ганс объяснял, спрашивал, показывал. Голос его охрип, губы распухли от непрерывной игры. Белка несколько раз убегала и возвращалась, стайками налетали шумливые птицы. Детишки ошалели от чудес и устали. Они съели все сухари, что были у Ганса, и кучу земляники, собранной суматошными дроздами. Мари уснула, свернувшись на расстеленной курточке Людвига. Гансик играл с белкой. Остальные все выясняли, какой должна быть волшебная доброта.
— Если белка ко мне придет, а я ее схвачу? — нападал старший Якоб, умненький мальчик, единственный кроме Людвига, умевший читать. — Ее же зажарить и съесть можно. Питер, вон, ест белок.
— Как ее есть, если она любимая?! — крикнула Лизхен, а Анна, за весь день не сказавшая и десяти слов, молча пересела поближе к Гансику, чтобы в случае беды защитить белку.
— А как ты любимую курицу кушаешь? — не сдавался Якоб.
— Она по–другому любимая.
— Получается, что доброму человеку охотиться нельзя? — спросил Людвиг.
— Можно, — сказал Ганс, — но если ты пошел за белкой, то не зови ее. Пусть она знает, что ты ее ловишь.
— Зачем?
— Иначе будет нечестно. Давайте разберем, может ли доброта обманывать… — Ганс обвел глазами ребят и вдруг заметил, что уже вечер.
Летом темнеет поздно, солнце было еще высоко, но в воздухе звенела совсем вечерняя усталость. Гансик, оставив белку, прикорнул рядом с Мари, проголодавшийся Питер сосредоточено жевал листики щавеля.
— Хотя об этом мы поговорим в другой раз, — поправился Ганс. — Если хотите, приходите сюда… послезавтра. Завтра я пойду на заработки.
— Разве вам тоже надо работать? — удивленно спросил младший Якоб.
— Работать надо всем, — сказал Ганс.
Он взглянул на спящую Мари, уже перекочевавшую на руки к брату, и добавил:
— Обязательно.
Городской лес тянулся от реки на восток, где грядой стояли невысокие, но крутые горы. Лес прорезала тропа на Ганновер, а у самой реки он был вырублен, земля распахана. Городские, церковные и свободные крестьяне селились там бок о бок в хуторах и маленьких деревеньках.
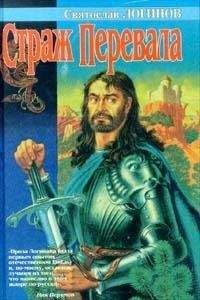

![Ричард Адамс - Обитатели холмов [издание 2011 г.]](https://cdn.my-library.info/books/49785/49785.jpg)
