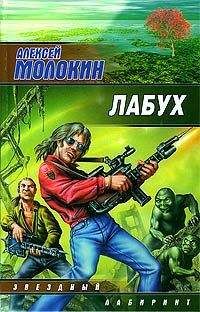— Я еще не завтракал, — сварливо отозвался расстроенный музыкант, — И, пока не позавтракаю, ничего играть не буду!
— Ну, — понятливо гукнул Ржавый. — Тогда подзаправься как следует и врежь по басам, чтобы загудело на весь мир...
Лабух опять примерился выкинуть трубку за борт, но тут телефон разразился таким требовательным и пронзительным верещаньем, что гитарист невольно нажал кнопку приема.
Голос, зазвучавший в трубке, заставил Лабуха вспотеть, а Дайану подобраться, словно дикую кошку, почуявшую мускусный запах ненавистной соперницы.
— Гражданин Лабух? — обещающе и страстно не то поворковала, не то простонала трубка. — Гражданин Лабух, сейчас с вами будет разговаривать товарищ Ерохимов!
Да, комиссар Раиса владела голосом в полной мере. С такими данными она вполне могла бы оказывать услуги типа «Секс по телефону», но мелко было это для товарища Раисы, ах как мелко. Не случайно от ее страстного шепота приходили в движение необразованные, но очень впечатлительные массы и, движимые глубинными инстинктами, все как один очертя голову бросались в разгулы революций и совершали террористические акты, хотя вполне могли ограничиться актами иными, более созидательными. Что связало поклонницу мадам Блаватской, породистую юную стервочку из аристократической семьи, с красным гамадрилом товарищем Ерохимовым, так и остается загадкой. Впрочем, можно предположить, что женское начало мадмуазель Раисы Кобель нашло в есауле Ерохимове достойный мужской конец.
В трубке булькнуло. Некоторое время Лабух вынужден был наслаждаться мелодией неопределенной ориентации, после чего раздался зычный голос товарища Ерохимова. Последний был краток.
— Товарищ Лабух! — Товарищ Ерохимов привык командовать и делал это профессионально, то есть ни на миг не сомневаясь, что все его распоряжения будут немедленно исполнены. — Комитет революционных музыкантов принял решение поручить тебе сыграть новое имя для этого погрязшего в мелкобуржуазной стихии города. За невыполнение — расстрел!
Лабух торопливо, словно ядовитую гадину, швырнул трубку за борт. Кувыркаясь, она золотой искоркой сверкнула в лучах восходящего солнца и, набирая скорость, со свистом устремилась вниз. Падая, трубка запоздало принялась пиликать «Турецкий марш», но соображения умной Эльзы по теме «Имя для города» так и остались неозвученными.
«Хорошо бы, чтобы она угодила в темечко товарищу Ерохимову! — с чувством подумал Лабух. — Или хотя бы Густаву».
Рассчитывать на такое везенье, однако, не приходилось, поэтому Лабух просто плюнул вслед канувшей в подернутую пеньюарной голубой дымкой бездну трубке. Настроение было безнадежно испорчено, любая музыка ничего, кроме чувства здорового отвращения, не вызывала. Лабух зло щелкнул переключателем, врубил звук и грязно выругался, чуть не порвав при этом струны.
— Эй ты кончай баловать! — раздался откуда-то снизу мощный голос.
Дед Федя, понял Лабух, вот ведь! А ему-то чего надо?
— Ты-то как до меня докричался, ведь я трубку выкинул! — Лабух был в отчаянии. Похоже, даже в отпуске его не собирались оставить в покое. — Я в отпуск собрался, не слыхал, что ли?
— Нам никакие трубки не надобны, ни мобильные, ни клистирные, — серьезно сообщил дед Федя. — А найти тебя не проблема. Сначала ты, не оправившись даже, не побрившись, не перекрестившись, за серьезное дело берешься, потом плюешься и ругаешься почем зря, у меня вон аж баян, и тот покраснел. Опять же, эфир штука нежная, а ты в него плюешь, словно в сортирное очко. И после этого ты хочешь, чтобы я не вмешивался?
— Так я всего-навсего хотел дать имя этому городу, — принялся оправдываться Лабух. — Только взялся за инструмент, как на меня навалились со всех сторон. Сыграй то, сыграй это... Такой драйв сорвали, что я не выдержал, да и плюнул в сердцах!
— А кто это тебя уполномочивал имя городу давать? Тоже мне, демиург самозваный выискался! — Дед Федя, похоже, не на шутку рассердился.
— А что, не демиург, по-твоему? — Лабуху стало обидно. — Вон мой портрет на десятке хотят напечатать. Чем я тебе не демиург?
— Мало ли какую фигню на десятках печатают! — не унимался дед. — Никакой ты не демиург, в лучшем случае — так, мизинец демиурга. Да и не мизинец даже, а другая часть тела, сказал бы, какая, да при женщинах неудобно! Одно слово — Лабух.
— Ну, это тоже неплохо, — не унимался Лабух. — А кто, по-твоему, должен Городу имя дать, уж не ты ли?
— Да есть у него имя, есть, просто оно забыто! Не вчера же этот Город возник, и не позавчера. И не твоими стараниями. Дай время, все вспомнится, чего ты все лезешь, куда тебя не просят! А теперь вот и жук, и жаба — все захотят в новом имени прозвучать. Подумай сам, что из этого выйдет. Сплошное безобразие!
— Уже захотели, — сообщил Лабух. — И жук, и жаба, и даже революционный товарищ Ерохимов.
— Вот видишь, — укоризненно сказал дед. — Чуть было не наделал делов. Хорошо, что я вовремя поспел. А не то, как пить дать, наделал бы!
— Ну ладно, — Лабух опустил инструмент. — Есть у него имя, ну и хорошо. Но, во-первых, оно устарело, а во вторых — мне-то теперь чем заняться?
— Ну, ежели ты считаешь себя демиургом или, — дед хмыкнул, — скажем, хотя бы его мизинцем, то вспомни, чем демиурги занимаются, закончив работу. Правильно, отдыхают. Так что скажи: «Это хорошо!» — и с чистой совестью отправляйся отдыхать. Мизинцу тоже отдых потребен.
Лабух подумал, вдохнул прохладный утренний воздух, хотел было сказать: «Это хорошо», но понял, что хитрый дед просто подтрунивает над ним, засмеялся и выключил звук.
— Честно говоря, я и сам не знаю, хорошо это или нет, — признался он. — Но ведь хотелось как-то завершить работу, так сказать, черту подвести, точку поставить. Что, нельзя?
— Знаешь, — сказал дед, — если город часто переименовывать, то скоро от него ничего не останется. Вот послушай-ка байку. Жил да был некогда один город. И было у него имя. Может быть, не очень красивое, но все-таки свое, исконное. Так он и жил с этим именем, в столицы не стремился, но уважения к себе требовал. Прорастал улицами, понемногу растворял в себе окрестные деревеньки и хутора. Понемногу рос, иногда расцветал праздниками, терпел юношеские прыщи кабаков, как мог лечился от воров да бандитов — в общем, все как полагается. Но однажды отдельным шибко умным жителям надоело жить в городе, который даже столицей стать не стремится, они взяли да и придумали ему новое имя. Сначала, правда, переименовали улицы и переулки, потом площади, а потом и весь город целиком. Ну, город от такого обращения, конечно же, занемог. Путаться начал в себе самом, несуразицы в нем стало много. Растерялся. Следить за собой перестал, чуть ли не в запой ушел. Воры и бандиты, почуяв слабину, размножились сверх всякой меры. В общем, потерял город веру в себя. Ведь переименовать город, это все равно что человеку насильно пол изменить. Представляешь, засыпаешь ты мужиком, а просыпаешься бабой! Долго город болел, наконец переболел, что-то прежнее в нем отмерло, что-то новое появилось. Приспособился, пообвыкся, воров и жуликов частью повывел, частью к порядку призвал, оклемался и опять понемногу в рост пошел. Умники, что сбежали было, снова понаехали, права принялись качать. Опять все не так, опять не по-ихнему. И добились-таки своего, снова город переименовали, потому как ничего другого от большого ума не придумали. На этот раз город и вовсе расклеился. Долго не мог прийти в себя, а когда наконец пришел, то это был уже совсем другой город. Опустился вконец, весь бурьяном зарос так, что перед иным поселком стыдно. А умники все не унимаются. Вместо того чтобы образумиться, решили город опять, в который раз уже, переименовать. Думали, не так, так эдак лучше будет. И переименовали. Так они его переименовывали, переименовывали и допереименовывались до того, что уже сами не понимали, где живут. Некоторые спились, а другие, те, кто умом покрепче, прочь подались, другие города уму-разуму учить. А уж город, бедняга, и подавно забыл, каким был когда-то, и даже не понимал, существует ли он на самом деле. Может быть, он просто табличка на въезде. Да и то все исчерканная. В него и новые люди-то перестали приезжать, потому что ехали в один город, а попадали в другой. Тут и простые жители, которым умничать по пустякам некогда было, понемногу начали разбегаться кто куда. И со смычкой с деревней перестало получаться, потому что деревня, она баба строгая и всяких там транссексуалов на дух не переносит. В конце концов нашлись добрые люди со стороны и предложили вернуть несчастному городу старое имя. Только вот, беда, никто его, этого имени, уже давным-давно не помнил. Поэтому все и вылилось в очередное переименование. Тут уж город совсем озверел. Весь чапками да малинами зачервивел, смотреть тошно, не то что жить. Порядочные люди давно все поуезжали, остались только те, кому ехать некуда, да еще те, кто сумел приспособиться, то есть жулье, ворье да бандюганы, да и тем солоно пришлось, потому что и грабить-то стало некого. Так и мается теперь на белом свете город-отморозок, которому все по фигу. Ни на одной карте ты его не отыщешь, ни один поезд туда не ходит, ни один самолет не летает, ни в одном расписании и ни в одном справочнике он не значится. И не дай бог туда ненароком попасть, потому что в городе-отморозке человек и свое собственное имя теряет.