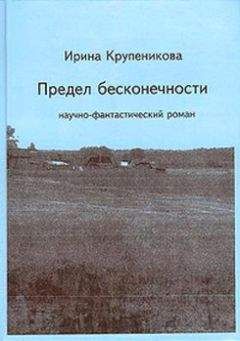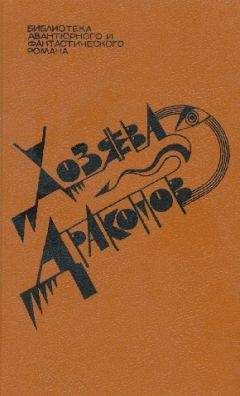Черный Музыкант, замолчавший под напором жизненной силы, вновь обрел голос. Тяжелые аккорды потекли над асфальтовыми дорожками городского двора. Фатальное одиночество и безысходность утверждало давящее адажио. Человек ничтожен, он песчинка в гигантском мире — угрюмо гудела скрипка. Извивающимися полутонами мелодия ползла вверх по октаве, и завывание воображаемого океана наполнило пространство. Жизнь швыряет человека в бушующие волны, — продолжал черный Музыкант, — бьет о глухие стены, слепленные из тысяч бездушных песчинок. И ни одна из них не двинется, чтобы позволить потерявшемуся в вихре судьбы отыскать свое место в холодной череде скал.
Подхватив образ моря и скалистого берега, смычок Павла широким взмахом вальса разогнал свинцовые тучи и открыл солнце. Повинуясь вдохновению Штрауса, песчинки, поднятые в воздух, кружили и стелились над берегом, норовя вовлечь в хоровод одинокую соплеменницу. Стань одной из нас, — взывали они, — иди в наш танец. Ты часть нас, а мы часть тебя! Иди же, освободи себя от одиночества!
Павлу показалось, что Музыкант в какой-то миг заколебался. Стремясь вырвать человека из паутины безысходности, юноша и его скрипка на крыльях Штраусовского «Очарования жизни» ринулись дальше по туннелям сознания, навстречу черному скрипачу. И… врезались в ехидный танцевальный напев.
Стань одной из нас, — передразнило ухмыляющееся стаккато, — и, как все, из «я» превратишься в «мы», такое же вульгарное, как уличный плакат! «Мы» — это масса, где тебя уже нет.
Простенькая слащавая мелодия сорвалась, и на Павла обрушилась торжественная сюита, в которой с трудом угадывалось творение Генделя. В темпе аллегро торжественная армада звуков перенесла мальчика внутрь гигантской темной башни, чьи стены надежно отгородили от мира все богатства человеческой души. Здесь на пыльных полках хранились некогда блестящие мысли, увядали во тьме немногочисленные чувства, гордо любовались собой невостребованные таланты, и уродливым трупом лежала в углу погибшая давным-давно любовь.
Пронзительно запела, взывая к вниманию, струна. Смотри, смотри, смотри!.. Сумасшедшая мазурка запрыгала по стенам и, распахнув несуществующую до сих пор дверь, ринулась в хаос внешнего мира. Сию же секунду внешний мир ворвался в запечатанную башню. Во мгновение ока с полок были украдены самые красивые мысли, отчаянно метались в поисках укромного уголка чувства; непонятые оскверненные таланты ползали в грязи возле порога, а труп любви был растоптан в прах грубыми ступнями.
Мазурка хохотала над ужасом, охватившим мальчика. Не в силах осознать, где сон, а где явь, он мог только думать о чудовищном представлении, устроенном Музыкантом. Он не помнил, как долго молчал его инструмент, но вот пальцы легли на струны. И скрипка запела серенаду. Павел даже не знал, какую именно пьесу принялся играть. Музыка лилась сама, невзирая на потрясение и страх, и главной темой этой грустной мелодии была жалость. Мальчик жалел одинокого Музыканта, видевшего во всем, что находилось вне каменных стен его башни, одно лишь глупое зло. Он попытался нарисовать ему другую картину: распахивается дверь, и свет заливает темницу. Встретив солнце, расцветают чувства, в его лучах искрятся забытые мысли, шагают навстречу людям таланты и возрожденная из праха любовь раскрывает волшебные белоснежные крылья.
Музыкант свысока усмехнулся двумя тактами какого-то марша, и продолжал в надменном соль-мажоре.
Жалеешь меня, малыш? Призываешь открыть душу и отдать мой гений безликому «мы»? А что я получу взамен?… Скрипка рассмеялась виртуозным пассажем. Что ты сам получаешь за свою великолепную музыку? Может быть «мы» дадут тебе ноги, чтобы ходить? Загляни в собственную башню, парень. Оглянись, посмотри… Ты один, один, один! Душераздирающее неуемное виваче завертелось вокруг Павла. Коварные звуки хлестали слух, раскаляли рассудок и выводили перед глазами силуэты несуществующих видений. Кульминационный момент пьесы, рожденной черным Музыкантом, предстал перед ним в облике башни, где его, Павла, по пояс замурованного в камень, окружали лишь голые серые стены.
Человек без ног! — глумилась скрипка, — ты считаешь, что жив? Обманутый ребенок! Меня смерть грызет изнутри, а тебя она связала еще при рождении. Она обрекла тебя на одиночество! И смеется, смеется, смеется…
Музыкант в черном халате действительно смеялся. Со струн его скрипки срывались невообразимые визжащие ноты, которые, как ни странно, складывались в логически правильную мелодию. И эта ужасная музыка носилась над домом, заглядывая в распахнутые окна и открытые двери. Два кота на козырьке крыши с отчаянными воплями вцепились друг в друга. Надрывно лаяла где-то в сквере собака. На втором этаже испуганно плакал младенец, и молодая мамаша, взвинченная и уставшая, резким голосом бросала стандартные в таких случаях реплики, от чего малыш заливался еще сильнее. Три соседки визгливо ругались во дворе по поводу сушившегося белья. Кашлял и чихал мотор «Победы», водитель сквернословил и, красный от гнева, стучал ладонью по открытому капоту машины. А Музыкант продолжал хохотать над людьми, в чьих душах его музыка посеяла злобу и хаос.
Павел готов был закрыть ладонями уши и закричать, как вдруг истерия чужой скрипки захлебнулась в величественных аккордах «Первого концерта» Чайковского. Фортепьяно яростно бросило в атаку всю мощь своих звуков. И пусть Борис позабыл со времен музыкальной школы некоторые нюансы техники, зато ЕГО Чайковский безапелляционно утверждал: пока жива Земля, пока над ней бушуют ветры и летают птицы, пока дышат деревья и реки несут свои воды далеким морям, будут жить и дружба, и преданность, и любовь.
Музыка разливалась и разливалась и не было ей конца. Скрипка Павла вторила фортепьяно, и чувства мальчика, приведенные в смятение коварным Музыкантом, вновь обретали спокойствие и равновесие. Его мимолетное сомнение, посеянное кантатой одиночества, скатилось по щеке единственной слезинкой и растаяло навсегда. Их с братом дуэт никогда не разобьют никакие Музыканты, думал Павел, и широкие торжественные такты великого произведения взывали людей к миру, мудрости и доброте.
Мальчик мельком взглянул на дверь и увидел мать, на цыпочках входящую в комнату с виолончелью в руках. Она бесшумно опустилась на стул, прикрыв глаза, поймала такт, и грудной теплый голос ее инструмента обнял сыновей.
Чужая скрипка осеклась и смолкла. А когда последний аккорд концерта застыл в очарованном воздухе, Музыкант в черном халате исчез без следа.
А потом был прелестный завтрак и улыбающаяся мама, нежно смотревшая на юношей. Она так и не поняла, что заставило Бориса сесть за фортепьяно и почему так отважно звучал в это утро Чайковский. Но мамина виолончель, безусловно, поставила последнюю точку в споре с Музыкантом, и братья радовались их общей бесспорной победе.