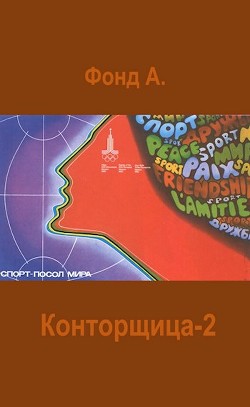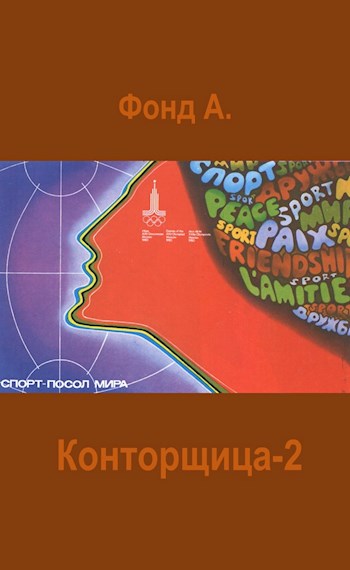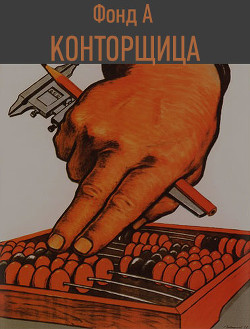— Горшков, мы все равно разведемся, хочешь ты этого или нет. Не желаешь по-хорошему — пойдешь через суд. Осознай своей тупой башкой — для тебя это хреновый вариант! Это плохо повлияет на твое вступление в Партию! Уж я прослежу!
(о своих партийных планах я скромно умолчала).
Горшков побледнел опять.
— Так, — я раскрыла сумочку и вытащила блокнот. Горшков наблюдал за мной с все возрастающим беспокойством.
Выдрав из блокнота листок, я швырнула его в Горшкова:
— Пиши!
— Что? — дернулся почти бывший лидочкин супруг.
— Заявление пиши! — рявкнула я.
— Ручки нету, — с плохо скрываемым злорадством сообщил Горшков.
Я раздраженно раскрыла сумку и заглянула внутрь — черт, ручки не было. Твою ж мать, на работе забыла!
— Где у тебя ручка? — спросила я.
— А, нету, — с нескрываемой насмешкой развел руками Горшков и глумливо ухмыльнулся.
— Сейчас своей кровью писать будешь, — тихим свистящим шепотом пообещала я.
Горшков ощутимо напрягся и его усы недовольно ощетинились.
За дверью вновь послышалась возня. Я рывком ее распахнула и рявкнула:
— Дайте ручку!
— А вот тебе! На! — нервно хохотнула милейшая Элеонора Рудольфовна и ткнула мне в лицо сморщенный кукиш. — Выкуси!
Я вновь захлопнула дверь перед ее носом и развернулась к Горшкову. Сказать ничего не успела, так как Элеонора Рудольфовна начала барабанить опять. Мои нервы сдали, и я открыла:
— МамО, — сказала я ей, глядя прямо в выцветшие глаза. — Вот вы, сейчас что творите?
— Изгоняю мерзость из дома! — выкрикнула мне в лицо она, с вызовом.
— Меня то есть? — переспросила я тихо.
Элеонора Рудольфовна ощерилась.
— Тогда объясните, почему Валерий не дает мне развод? — просто спросила ее я, — Пусть ваш сын подпишет заявление, которое он единолично забрал из ЗАГСа, и я уйду из вашей жизни навсегда.
— Не подписывай! — взвизгнула Элеонора Рудольфовна, глядя поверх меня.
— Почему это? — пыталась понять я. — Из-за квартиры? Так в ней уже приписана я, Римма Марковна, моя мать и двоюродный дядя из Бердычева с семейством.
Элеонора Рудольфовна и Горшков растерянно переглянулись.
— Кроме того, сейчас там уже живет несколько человек, а с осени приедут жить студенты из моей деревни, — продолжила перечислять я, — мы всегда в деревне помогаем всем родственникам.
— Ты не имеешь права, — возмущенно протянула Элеонора Рудольфовна. — Вы не развелись, и квартира принадлежит мужу.
— Да прям! — хмыкнула я, — он там даже не прописан. Квартира досталась мне по завещанию от тетки. Еще до замужества! Любой суд меня поддержит.
Я точно не знала законов этого времени, поэтому блефовала, как могла.
— Валерий женился на тебе, перестарку, — вдруг выпалила дрожащим голосом Элеонора Рудольфовна, покрывшись красными пятнами, — а ты, вместо благодарности, теперь нам нервы мотаешь и перед людьми позоришь!
— Возможно, — пожала плечами я, — но ваш дорогой Валера сделал мою жизнь настолько невыносимой, что кроме развода, я от него больше ничего не хочу!
— Дура, — сказал Горшков и надулся.
— И вот что мне интересно, — продолжила я, не обращая на него внимания, — дорогая мамО, вот вы, когда все это затеяли, вы чем думали? Ну, пристроили сыночка, потом запугали, загнобили невестку, а дальше что? Теперь невестки у вас не будет.
— И хорошо, что не будет! — брезгливо скривилась она, руки ее подрагивали.
— Да. Для меня — хорошо. А вот для вас, мамО? — вздернула бровь я. — Вы-то стареете, и чем дальше, тем сил будет меньше. Неужели вы думаете, что вас досмотрят ваши «творческие» избалованные детки?
— Не тронь моих детей! — прорычала старуха и морщинистое лицо ее перекосилось от злобы.
— Да сдались они мне, — отмахнулась я.
— Тебе до них никогда не дорасти! — гневно заявила она, — Ничтожество!
— Это уж точно, — хмыкнула я и не удержалась от мелкой мести. — А известно ли вам, дорогая мамО…?
— Не называй меня так! Я тебе не мама! — закричала она.
— И то правда, — кивнула я, — так вот, известно ли вам, дорогая Элеонора Рудольфовна, что ваш горячо любимый и творческий сынуля играет в карты на крупные суммы денег? Очень крупные, там не одна сотня рублей проигрывается. И не две. И не пять даже.
— Ты опять? — взревела Элеонора Рудольфовна, бросилась к Горшкову, схватила его за бары и принялась трясти. — Ты же обещал!
— Но мама… — проблеял Горшков, отстраняя мать и попытался зарыться в подушки.
— А известно ли вам, что ваша творческая дочь Олечка сбагрила вашу внучку в детский дом, а сама спуталась с женатым мужиком? — не унималась я, — и что все соседи это видят… и что жена этого мужика уже узнала и прибегала ловить ее? А вы в курсе, что Ольга почти не ночует дома...?
От каждой новости Элеонора Рудольфовна бледнела все больше. Наконец, ее глаза закатились, и она со стуком кулём рухнула на пол.
— Убийца! — тоненько и неуверенно заверещал Горшков, с ужасом глядя на меня.
Я подошла к свекрови и потрогала венку на шее, та билась.
Обморок.
Ну и хорошо, пусть полежит, отдохнет, а мы пока порешаем с супругом семейные дела без посторонних.
— Так, — сказала я и повернулась к Горшкову. — Подписывай давай.
— Так нету ручки же, — злобно ответил Горшков и полусвесился с кровати, пытаясь рассмотреть лидочкину свекровь на полу. — Что с матерью?
— Умерла, — улыбнулась я и добавила, — так что ты у нас теперь сиротинушка.
Горшков выпучил глаза и бессильно откинулся на подушки.
— Ручка… ручка… где же ты, ручка… — фальшиво бормоча под нос на манер песенки, я подошла к явно антикварному пузатому шкафу и распахнула его. Дохнуло спертым запахом нафталина и разложившихся сладковатых духов. Барахла там было напихано, дай боже, (пришлось перерыть кучу одежды, штосы постельного белья, какие-то батистовые тряпки, помпоны, полотняные скатерти с вензелями и монограммами), но ручки, увы, не было.
Я вернулась к английскому секретеру темного дерева, инкрустированному то ли малахитом, то ли подделкой под малахит (я склоняюсь к первому варианту), и стала заглядывать во все ящики и ящички. Там все пространство тоже было забито всевозможным хламом, начиная от затертых квитанций и пустых пузырьков от духов, заканчивая жестяными коробками с пуговицами и пухлыми альбомами в обложках из облезлого бархата.
Барахла было очень много. Поэтому я поступила просто — вытаскивала ящички и вываливала оттуда хлам прямо на пол. Минут пять таких упорных поисков, в конце концов, увенчались успехом — на пол выпал обычный школьный пенал с карандашами и ручками.
Вытащив первую попавшуюся, я швырнула ее в Горшкова:
— Пиши, тварь!
— Не буду, — заорал в ответ Горшков, дав петуха на последней ноте. — Ты мать убила и сядешь!
— Ах ты ж, сука! — взбеленилась я. Нервы мои сдали, под руку попалась какая-то увесистая книга, я схватила ее, подлетела к лежащему на кровати Горшку и принялась его лупить, куда видела.
Тот сопротивлялся, но мой гнев был столь сильным, что я лупила и лупила, не разбирая ничего.
Не знаю, если бы рука сильно не устала, я, может быть, даже убила бы его в тот момент. Остановилась только тогда, когда из носа Горшкова обильно полилась кровавая юшка.
— Пиши! — прошипела я, пытаясь отдышаться. Спина была мокрая, руки аж отваливались.
Горшков с ужасом глядел на меня, пытаясь прикрыть голову и лицо парафиновыми руками в багровых разводах.
— Пиши, я сказала! — заорала я и залепила ему оплеуху.
Его голова дернулась.
Горшков взвизгнул, схватил мятый листок и принялся торопливо писать дрожащими руками, постанывая и утирая кровавые сопли тыльной стороной ладони…
Я с отвращением отшвырнула орудие мести — книгу. Она отлетела, ударившись об стенку и упала, раскрывшись. Оттуда вывалились старые фотографии и какие-то письма, бумажки.
Пока Горшков карябал заявление о разводе, я подошла к барахлу и брезгливо поворошила носком ботинка. Фотографии были в ужасном состоянии, словно по ним прошла рота солдат в грязных сапогах. Я присмотрелась — на одном из выцветших фото, явно свадебном, в длинной пышной фате и веночке из листьев, было лицо Лидочки Горшковой, только очень-очень молодое. Рядом, нежно держа ее за руку, сидел такой же молодой, лопоухий парень.