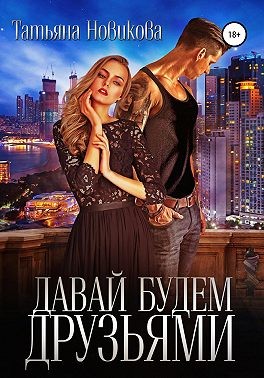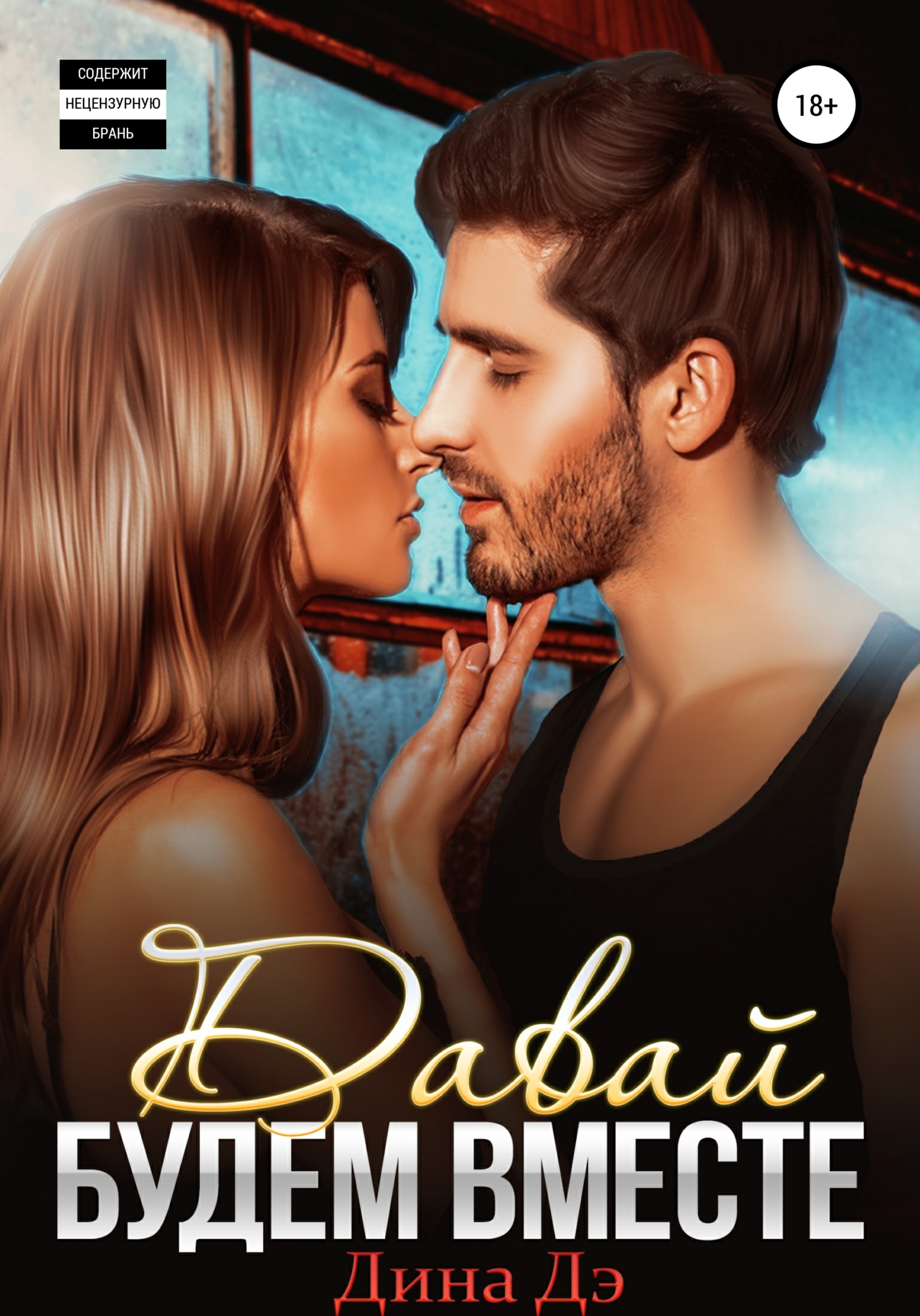Очутился в центре внимания, подходя к дому. Гулявшие по двору студенты при виде меня умолкали. Рассматривали моё тело, будто никогда не видели по пояс голых мужчин. Не сразу сообразил, что глядели не на мои выпиравшие рёбра и не на впалый живот — всеобщий интерес привлекли украшавшие меня шрамы. Ещё у колодца я отметил, что жизнь здорово потрепала Александра Усика. Нашел на своём животе следы от старых рваных ран, места порезов на руках и груди. Какие картины открылись зрителям на моей спине — лишь догадывался по сочувственным взглядам.
Прошел в жилую мужскую комнату, борясь с желанием ускорить шаг. Порылся в рюкзаке — поспешно натянул найденную там майку. Стеснительностью я никогда не страдал. Но вот сочувственные взгляды, что провожали меня до кровати, совершенно не понравились. Не помню, чтобы в записях Людмилы Сергеевны видел упоминания причин всех этих старых ран Комсомольца. Парню когда-то сильно досталось. В школе-интернате? Или туда он угодил уже со всеми этими отметинами на теле? Так или иначе, но детство Саши Усика прошло явно не на берегу кисельной реки. Не удивительно, что крыша у парня подтекала.
Желания прогуливаться по полям я не испытывал. Участвовать в студенческих спорах и беседах — тоже не рвался. Объектов для исследования вокруг дома трактористов я не видел: сомневался, что в девяностых колхозные поля сильно отличались от тех же, что были в шестидесятых. Пашка Могильный и Слава Аверин активно ездили по ушам двум подружкам: Фролович и Пимочкиной — бывшим одноклассницам. Рядом с этой четвёркой вертелась и моя соседка по автобусу — Надя Боброва: она оказалась соседкой Оли и Светы по общежитию. Присоединяться к компании я не пожелал. Решил, что несколько дополнительных часов сна перед завтрашним рабочим днём мне не помешают.
Но сразу завалиться спать не получилось: на своей кровати обнаружил гитару. Смутно припомнил, что инструмент принадлежал застолбившему верхнюю полку надо мной студенту. В памяти мелькнуло воспоминание о прочитанной в интернете заметке. Её автор сообщал, что шестиструнную гитару в СССР запрещали. Мол, знаменитые композиторы доказали, что семиструнный инструмент лучше, что для него есть больше аккордов. А шестиструнная «испанка» — западное веяние, плохо влиявшее на советских людей. Потом автор и вовсе впадал в маразм, доказывая, что наш инструмент не гитара — гусли.
«Сам бы играл на тех гуслях», — подумал я.
Взял в руки гитару — привычную, шестиструнную. Хотел было отложить её на соседнюю койку. Но не удержался, провел рукой по струнам. Пальцы словно только того и ждали: пробежались по грифу, вспоминая аккорды. Моя музыкальная карьера вышла в пик во времена студенчества. После окончания учёбы в институте я нечасто брал инструмент в руки. А вот Усик, похоже, игрой на шестиструнке не пренебрегал: уж очень ловко мои пальцы перебирали струны — без навыков, на одних только прошлых знаниях так не сыграешь. Заинтригованный, я уселся на кровать, отвернулся от входа в комнату — проиграл простенькую мелодию.
Затягивать баловство я не намеревался.
Улыбнулся, вспомнив девяностые, когда я, подвыпивший, усаживался на перила в коридоре общаги и на пару с пареньком из Мурманска устраивал концерты.
Уже собрался было забросить гитару на верхнюю полку, как вдруг услышал голос Пашки Могильного.
— Нет, посмотрите на него, — сказал он. — Спрятался тут. С гитарой обнимается. Девчонок испугался?
Пашка взял со своей кровати спортивную кофту (вечером на улице жара не досаждала) с надписью «СССР» на груди. Но одеваться не спешил.
— С детства их боюсь, — сказал я.
— Это ты зря.
Пашка указал на гитару.
— Что, и играть умеешь? — спросил Могильный.
— Баловался когда-то.
Я примерился, желая вернуть инструмент на кровать его владельца.
Но Пашка помешал мне расстаться с гитарой.
— Нет, уж, — заявил он. — Сыграй что-нибудь.
— Да я…
Могильный положил мне на плечо руку — не позволил встать с кровати.
— Спокойно, Саша. У меня сестра училась играть на скрипке. Пять лет! Поверь мне: я многое слышал и пережил — терпеливо отношусь к юным талантам. А больше тебя никто и не услышит. Не стесняйся. Что умеешь? Высоцкого можешь сбацать?
Я погладил струны кончиками пальцев.
— Ну…
Попытался припомнить: исполнял ли когда-нибудь песни Владимира Высоцкого. Не припомнил ни одну мелодию. В девяностые мы предпочитали иной репертуар.
«А Комсомолец?»
Мысли о Комсомольце помогли мне выбрать музыкальную композицию.
Проиграл вступление.
— Давай, Саня, — подбодрил меня Пашка. — Я тебе подпою.
— Ты эту песню не знаешь. Она не на стихи Высоцкого.
— Играй. Начало хорошее.
Решил: спою.
Не потому что поддался на уговоры Пашки.
Хотел проверить: смогу ли.
От Александра Усика мне достались гибкие и ловкие пальцы музыканта. А ещё множество шрамов на теле. И необычный имидж, в поддержку которого я и решил спеть. Ни на секунду не усомнился, какая песня для моего исполнения была бы более уместной.
Она наверняка бы понравилась Саше Усику.
— Я начал жизнь в трущобах городских. И добрых слов я не слыхал…
Слова лились легко.
Голосом Комсомольца природа не обделила. Да и сам он, похоже, занимался пением. В своём настоящем теле я ТАК исполнить эту песню не смог бы — без сомнения.
Шептать и прятаться я не собирался.
Сам удивился мощи своего голоса.
И тому, как уверенно и ловко пальцы порхали над струнами.
Песня из кинофильма «Генералы песчаных карьеров» — вот что ассоциировалось у меня с образом Александра Усика. Пожалуй, это единственная композиция, которую я заучил после института — уже в двухтысячных, под впечатлением от сериала «Бригада». Пел её тогда на корпоративных вечеринках для своих тогдашних начальников. Уже потом узнал, что песня старая, написана ещё в начале семидесятых годов совсем для другого фильма. И исполнялась она уже тогда — неизвестным мне коллективом.
— … За что вы бросили меня, за что?…
Пашка стоял передо мной с кофтой в руках. Приоткрыв рот. Собирался о чём-то спросить?
Пальцы в присмотре не нуждались.
Я закрыл глаза. Сосредоточился на звучании собственного голоса. Сам прибалдел от своих новых способностей. И получал удовольствие от пения. Мелькнула запоздалая мысль: раз песню исполняли в семидесятых, то и в шестьдесят девятом её не посчитают за антисоветскую. Несмотря на все эти «небоскрёбы» и упоминание «богов». И это замечательно. Потому что мне даже во сне не хотелось бы вылететь из комсомола и института — «антисоветчина» в моих представлениях была похуже «аморалки».
Услышал за спиной чей-то вздох — не обернулся.
И не открыл глаза.
— …Мать иногда являлась мне…
«Кто-то всхлипнул?»
Звук повторился, но прозвучал уже чуть ближе.
«Похоже, к Пашке присоединились и другие слушатели».
Устраивать концерт я не планировал. Чувствовал, выступление пора сворачивать. Но прерывать песню мне показалось… кощунством. Я допел последний куплет. Ощущал на затылке чужие взгляды. Не торопился завершать мелодию «на полуслове». Струны безропотно повиновались моим рукам — музыка звучала почти без фальши. «Испанка» не подвела. Доказала, что она — не гусли. И лишь когда извлёк из струн заключительную ноту, позволил себе перевести дыхание. Прижал к струнам ладонь, посмотреть на Могильного.
Тот продолжал изображать сталагмит. Краешки его губ вздрагивали, как у обиженного маленького мальчика. В глазах парня я заметил блеск влаги.
— Вот… как-то так, — нарушил я тишину.
Вновь услышал всхлипывания.
Обернулся.
Увидел усатого доцента, Славку Аверина, Фролович, Боброву, Пимочкину. И остальных парней и девчонок из своей институтской группы. Но не всех: не заметил Альбину Нежину. Специально пробежался взглядом по лицам стоявших в комнате студентов. Королеву не нашёл. Света Пимочкина всхлипнула, размазала по лицу тушь. Утирали слёзы почти все смотревшие на меня девчонки, даже Надя Боброва. На мокром месте были и глаза некоторых парней.