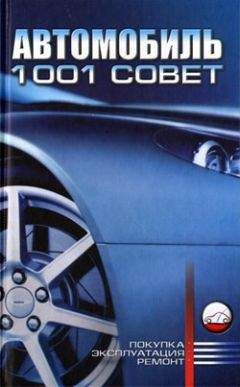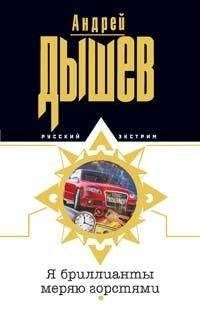— А в Петрограде?
— А в Ленинграде штукари орудовали. Циркачи, гипнотизеры. С белогвардейской подкладкой, они так и проходили, как банда белоподкладочников. К Ильичу никакого, разумеется, отношения не имели.
— И я… И мы можем быть уверены, что никакого двойника Ульянова не возникнет?
— Позволь, я скажу, как сам понимаю, — сказал Сталин.
— Конечно, Коба, — охотно уступил трибуну Дзержинский.
— В чём главная сила Ленина? Не в должности, батоно Алексей, совсем не в должности.
— Это я понимаю, — согласился Рыков.
— Тогда в чём? В уме?
— Возможно.
— У Ленина ум могуч и всеобъемлющ, не было и нет ему равных по уму, но нет, не в этом его главная сила. Тогда, быть может, в знаниях?
— Быть может.
— Знания Ленина обширны настолько, что обыкновенный человек и вообразить себе не может, но нет, и не в знаниях его главная сила.
— В воле, — сказал Рыков. — Сила Ленина в непреклонной воле!
— Воля Ленина — как дамасская сталь, ты прав, батоно Алексей. Но и не в воле его главная сила.
— Так в чём, Коба, в чём? — Бухарин начал терять терпение. Его, председателя Совнаркома, поучает неудавшийся священник. Два неудавшихся священника, Сталин и Дзержинский. Церковный союз.
— Главная сила Ленина — в Партии. Он понял, что только Партии по силу решить небывалые задачи, которые ставила, ставит и будет ставить Революция. И он её создал, Партию, используя свой ум, свою волю, свои знания. Создал — и оставил нам. Партия — его главное, самое важное наследство.
Вот ты боишься, что появится ложный Ильич…
— Я не боюсь, я просто должен знать…
— Но чего стоит ложный Ильич без Партии? — не обращая внимания на реплику Рыкова, спросил Сталин, и сам же ответил — Ничего не стоит ложный Ильич без Партии. Совсем ничего. И потому в ряду наших забот эта забота — последняя. Это даже не забота, а так… камешек в сапоге. Камешек, которого давно нет.
— А если вдруг появится — легко вытряхнем, — добавил Дзержинский.
Позже, когда он и Сталин курили в садике у дома, отдыхая от гостеприимства Рыкова, Коба спросил:
— Насчет камешков… Тогда, в Горках, исчезли не только тела Ленина, его жены и сестры. Еще ведь часть обслуги недосчитались. Повар, санитар, даже доктор. Не иголка.
— Двенадцать человек, Коба, двенадцать человек. Не иголка. Двенадцать иголок. Но — если они молчали тогда, если молчат по сей день, то либо они погибли в те дни, от газов, или от иных причин. Либо решили молчать. Мы их, конечно, ищем, но людишки-то дюжинные, из простых. Один только доктор — заметная фигура. Не просто доктор, а целый профессор, Виктор Петрович Осипов, кафедрой заведовал. Такие люди бесследно не исчезают. А он исчез. За границей не всплыл, в Москве, и в Ленинграде тоже не появлялся, — Дзержинский никогда не называл Ленинград по-старинке, Петроградом. — За женой установлено наблюдение, задействованы лучшие агенты, но — нет, никаких признаков бытия. Других тоже проверили, местных — печника, дворника, шоферов. Ничегошеньки. Пусто.
— Так не бывает, — сказал Сталин.
— Ты прав. Бесследно исчезнуть двенадцать человек, даже пятнадцать, если считать Ильича, Миногу и Фифу, не могут. Сами по себе не могут.
— Следовательно, что?
— Следовательно, их кто-то исчез. У кого были возможность, был мотив, были средства.
— И кто же этот человек?
— Троцкий! — ответили оба одновременно.
— Да, отряд Близнюка. Близнюк на эти штуки мастер, — сказал Дзержинский. — Но, поскольку дело было в январе, а сейчас сентябрь, я бы за жизнь той обслуги, включая профессора, не дал бы и чарки рыковской водки.
Глава 18
21 декабря 1924 года, воскресенье
Дети Карла Маркса
— Шах и мат! — сказал Ильич буднично.
— Вам дьявольски везет, мистер Рабин, — ответил Майер, владелец букинистической лавки, расплачиваясь за проигрыш.
— Везет — это когда умирает троюродный дядюшка, которого вы никогда не видели, и оставляет вам миллион. А это, — Ильич показал на шахматную доску — есть проявление закономерности. В юности я провел немало часов за шахматной доской. Бывало, игрывал с признанными мастерами, и однажды даже победил самого Ласкера. Правда, в сеансе, — добавил он скромно.
— И кто же давал сеанс? Вы, или господин Ласкер? — но Майер повеселел. Всё-таки проигрыш тому, кто обыграл Ласкера, не позор. Это даже в какой-то степени почётно. Получается, он и Ласкер играют в одну силу!
— Вы всё шутите, мистер Майер, — сказал Ильич, помещая пятидолларовую банкноту в тощий потрепанный бумажник.
Пять долларов — крупная сумма. Обычная ставка в Центральном Парке — пятьдесят центов, редко доллар. Но мистер Майер — владелец магазина, а он, Бен Рабин — свободный художник, им по доллару играть не пристало. Лопни, но держи фасон! Майер и в Одессе имел книжный магазин, но после пятого года решил, что второго шанса жизнь может не дать, и приехал сюда. Магазинчик у него был небольшой, но на жизнь хватало, а что проиграл пять долларов — так они завтра или послезавтра вернутся: мистер Рабин время от времени покупал у Майера книги по теории искусства. Для конспирации. Он же художник!
Ильич, то есть мистер Рабин даже дал Майеру несколько полотен на комиссию, и, о чудо, на прошлой неделе кто-то купил одну картину: «Восход Земли над Марсом»: голубой пятиугольник над красной равниной. Двадцать пять долларов, не шутка!
Распрощавшись с Майером, Ильич отправился к себе. Квартирка у него была не слишком хороша, но зато располагалась в квартале, где живут начинающие адвокаты и врачи. То есть люди, подающие надежды. По опыту Ильич знал, что в таких кварталах полиция действует предельно аккуратно, и обитателям старается не докучать: начинающим адвокатам только дай повод показать молодые зубки. Вторым большим плюсом была хорошая звукоизоляция: обычный разговор в соседней квартире услышать было невозможно.
На спиртовке он вскипятил воду, опустил чайный пакетик. Чай по-американски ему поначалу не нравился, но он оценил изящество решения. А вкус, что вкус… Американский вкус!
Проф и Улан пришли ровно в девять, как и договаривались.
Поздоровались, сели за стол, но чая им Ильич предлагать не стал. Не за чаем они пришли.
Зато завел граммофон, приготовил пластинки с музыкой Бетховена. Звукоизоляция сама собой, а музыка сама собой. Собрались любители классической музыки, здесь это в привычку.
Первым начал Проф:
— Каждый из главарей трёх крупнейших банд, контролирующих торговлю спиртным, азартные игры и проституцию в Бронксе, получит послание, в котором ему будет предложено ежемесячно передавать «Карлссонам» трети прибыли. В противном случае главари будут уничтожены. Написаны послания в тоне сухом, деловом, без надрыва, как о деле обыкновенном.
Ожидается, что главари всерьез эти послания не примут. Выбросят в мусорные корзины. Но эти послания получит и ближайшее окружение главарей. После смерти главарей на их место встанут те, кто будет наверное знать: послание «Карлссонов» — не шутка, а ультиматум. И когда они, в свою очередь, получат предложение о регулярном отчислении средств, они задумаются. А уже следующая смена согласится безоговорочно. Лучше отдать треть, и остаться с двумя третями в живых, чем умереть.
Вслед за Бронксом подобные предложения поступят бандам и других районов. Таким образом, к маю следующего года все крупные банды Нью-Йорка станут платить дань, и «Карлссоны» будут иметь в своем распоряжении пятьсот тысяч долларов ежемесячно — это минимальная оценка.
После этого «Карлссоны» добьются контроля над Филадельфией, Бостоном, а за два года — над всем восточным побережьем Северо-Американских Соединенных Штатах.
— Что ж, план скромный, тем и хорош. Лучше меньше, да лучше, — пошутил Ильич.
Слово перешло к Улану. Тот был краток:
— Задействована ударная группа, три человека: снайпер, который поразит цель с расстояния в двести ярдов, сопровождающий с субпулемётом Томпсона, и водитель, задача которого обеспечить как выдвижение, так и возвращение группы на промежуточную базу.