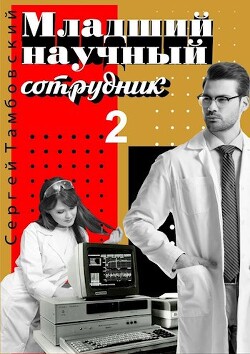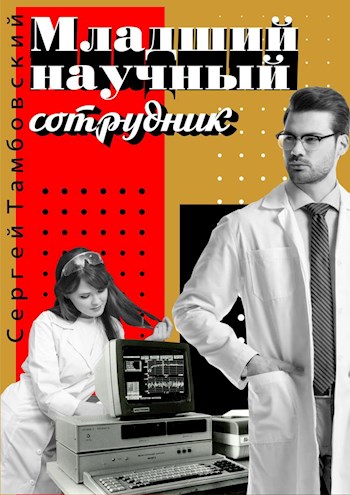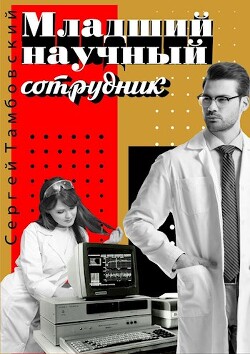— Ну-ка, ну-ка, — начальник взял в руки этот ужас и шесть раз нажал на кнопки, потом прислушался и из динамика явственно раздалось «алло». — Действительно работает, эээ, как уж вас?
— Балашов, — повторил я, — Петя я.
— Нужное изобретение… Семён Наумыч, не дайте пропасть молодому таланту, — обернулся он к завотделом.
Тот коротко ответил, что будет исполнено, и они все вместе проследовали куда-то ещё дальше. А через десять минут в экранку вернулся Бессмертнов и сначала отругал меня, что занимаюсь чёрт знает чем, а потом внимательно рассмотрел моё творчество.
— Частота какая? — спросил он.
— 35 мегагерц, — ответил я.
— Микросхемы где брал?
— Так на стеллаже же в конце антресолей… они там свободно лежат.
— А кнопочки с микрофоном?
— Это мои личные, — признался я, — на радиорынке купил.
— Другие, значит, казённое добро на рынок тащат продавать, а ты свои деньги в наш институт вкладываешь? — недобро прищурился он.
— Получается так, — вздохнул я. — Таким уродился уж.
— Ладно, продолжай, чего уж там, — махнул рукой он, — приведи это в божеский вид и сделай два экземпляра. Сколько времени понадобится?
— Неделю, Александр Сергеич, — ответил я, — если мешать не будут. А кто приходил-то?
— В лицо надо знать таких людей, — укорил он меня, — Александров это был, президент Академии наук.
— А второй, который сзади него стоял?
— А это Капица, тот, что Очевидное-невероятное ведёт, — сообщил мне Бессмертнов и скрылся с глаз долой.
Физрук
Вечером мать опять пришла домой с красными глазами. Я вздохнул и приступил к расспросам.
— Это снова он? Физрук в смысле? — спросил я у неё.
— Да, сыночек, опять он приставал, — призналась она, — не знаю уж, что и делать.
— Директору или там завучу говорила?
— Знают они всё, но молчат… сор из избы наверно не хотят выгребать.
— Так, — побарабанил я пальцами по кухонному столу, — где живёт этот хрен, знаешь?
— Знаю, конечно, а зачем тебе?
— Поговорю для начала…
— Может не надо, сыночек? Он здоровый мужик, метр девяносто ростом…
— Ничего, и до таких длинных иногда доходят нужные аргументы, — отговорился я, — так где, говоришь, он живёт-то?
— На нашей улице в том конце, который в парк упирается.
— Это в первом доме что ли? Козырное место, там, говорят, одни начальники проживают. А квартира какая?
— Двенадцатая, — еле слышно ответила мама, — я его учётную карточку видела.
— Ну и отлично, пойду подышу свежим воздухом, — сказал я, обулся в кроссовки кимровской обувной фабрики (пришла мысль, что надо бы гардероб обновить, деньги-то есть) и скатился по широкой лестнице во двор.
Что мне нравится в сталинском жилье, так это просторные лестницы и необъятные лестничные площадки. И еще высота в три метра и больше. У физрука по имени Владлен Игоревич (родители что ли пламенными большевиками у него были) был как раз такой домик, сданный в эксплуатацию в туманных тридцатых годах. Эпоха, конечно, была жуткая, нравы в обществе те ещё и атмосфера мерзопакостная, но строить эти ребята умели — и через пятьдесят лет всё стоит и радует глаз. С колоннами, баллюстрадами, эркерами и пилястрами, короче говоря, со всем тем, что порезал под корень Никита Сергеич на рубеже шестидесятых годов.
Так, двенадцатая квартира это, очевидно, в первом подъезде — ладно ещё, что в этом времени домофонов пока не наставили. Поднимаемся на третий этаж и звоним в дверь направо.
— Кто там ещё? — раздался изнутри зычный голос.
— Мне бы Владлена Игоревича, — ответил я максимально спокойным тоном.
Петли у этой двери не смазывали очень давно, поэтому открылась она со страшным скрипом. Внутри был действительно рослый гражданин с неприятной даже на первый взляд физиономией.
— Ну я Владлен, а ты кто?
— Петя, — спокойно ответил я, — Балашов моя фамилия.
— Родственник Клавдии Николаевны что ли?
— Ага, сын. Разговор есть.
— Ну заходи, — посторонился он.
— Не, — помотал головой я, — лучше прогуляемся — погода хорошая, чего в помещении вопросы решать?
— Щас я выйду, — буркнул он и закрыл дверь, а я спустился вниз и сел на пустую лавочку у подъезда.
Игоревич появился очень быстро, одетый в спортивный костюм. Я встал и мы вместе перешли через проспект Жданова к зеленой зоне вокруг стадиона ручных игр.
— Чего сказать-то хотел? — прямо спросил он меня.
— Слушай, Влад, — перешёл я на ты, — не надо к моей матери приставать, ладно?
— А тебе какое до этого дело?
— Не, — развеселился я, — действительно — какое, блять, мне дело до того, что моя мать каждый день с заплаканными глазами домой приходит? Почти что никакого.
— А она, что, плачет? — снизил тон он.
— Ну насчёт каждого дня это я загнул конечно, но пару раз в неделю точно, — ответил я.
— Нравится она мне, вот чего, — Игоревич достал из кармана пачку Беломора, предложил мне, потом закурил, опершись ногой на ограду вокруг пруда.
— Да это я уже и так понял, — махнул рукой я, — вопрос в том, что ты ей не нравишься.
— И почему это?
— Она говорит, что у тебя изо рта нехорошо пахнет, — бухнул я ему главный аргумент.
— Да ну? — изумился он, — а я и не замечал.
— Обычно это дело бывает, когда проблемы с желудком, — просветил его я, — ты бы проверился у этого… у гастроэнтеролога, заодно и здоровье поправишь… а дальше уж как получится. Прямо скажу, что лично у меня против тебя ничего нету — мать женщина достаточно молодая ещё, семью создать совсем не поздно. Только реши вопрос с этим запахом. Зубная паста со вкусом чего-нибудь там может ещё помочь и эти… полоскания в аптеке продаются — врач, короче говоря, всё по полочкам разложит, лады?
— Лады, — как-то даже смущённо отвечал Игоревич, — постараюсь решить этот вопрос в короткие сроки.
Погорелый театр
— Чего сидите-то? — высунулся Аскольд из дырки в полу, в которую уходила винтовая лестница, — там в зале семинаров театр выступает, а вы тут сидите.
— Да ну? — удивился я, — и что за театр?
— У Никитских ворот называется, за главного там такой Марк Розовский, говорят, — ответил он
— Ну тогда надо сходить, — я отложил в сторону плату с недопаянными микросхемами, выключил паяльник, снял белый халат и встал.
— Шурик, пойдёшь? — спросил я у соседа.
— Можно, — лениво ответил тот, — только я первый раз слышу и название, и фамилию эту.
— Ну вот может и запомнишь, а ты, Оля, как относишься к театральному искусству? — спросил я у неё.
— Не пойду я никуда, — надула она губы, — у меня работы полно ещё.
А по дороге к залу семинаров Аскольд просвещал нас насчёт этого театра.
— Я слышал, что у них там очень оригинальная концепция творческого процесса — зрителей они в действие вовлекают.
— Это как? — удивился Шурик.
— Очень просто. Берут первого попавшегося зрителя за шкирку и тащат его на сцену…
— И чего он там делает, первый попавшийся? — продолжил удивляться Шура.
— Вовлекается в сценарий, чего — далее следует сплошная импровизация с элементами здорового юмора.
— Надо подальше сесть, — озаботился Шура, — что-то мне никак не светит такое вовлечение.
— Ну а чо, прикольно, — сказал я, — когда ещё на сцене рядом с настоящими артистами покривляешься на халяву.
— Ты тогда в первые ряды проходи, если не боишься, — предложил мне Шурик, — а мы где-нибудь сзади уж пристроимся.
Я так и сделал — зашёл в двери, которые ближе к сцене находились, и сел на свободное кресло в первом ряду с краю. А спектакль тем временем уже начался, была это инсценировка чеховского рассказа «Унтер Пришибеев», насколько я сумел понять.
— Унтер-офицер Пришибеев! Вы обвиняетесь в том, что 3-го сего сентября оскорбили словами и действием урядника Жигина, волостного старшину Аляпова, сотского Ефимова, понятых Иванова и Гаврилова и еще шестерых крестьян, причем первым трем было нанесено вами оскорбление при исполнении ими служебных обязанностей. Признаете вы себя виновным? — возопил со сцены артист, исполняющий, по всей видимости, роль мирового судьи.