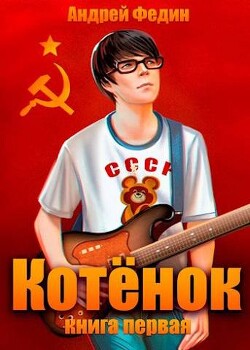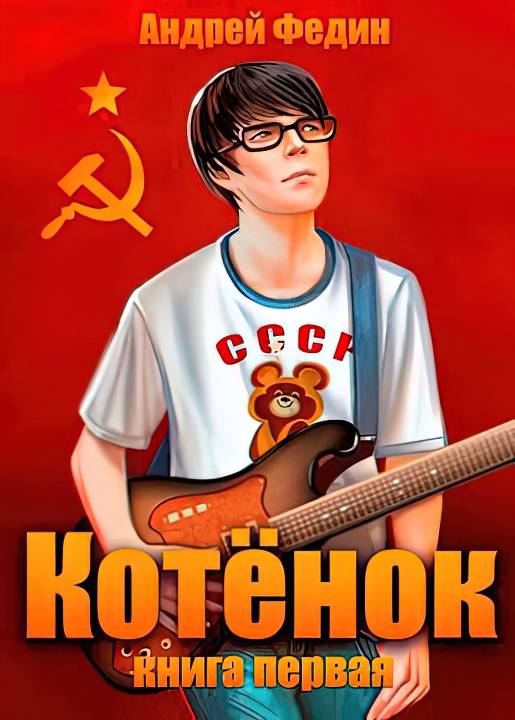На пятый этаж мы поднялись, не обменявшись по пути ни единой фразой (Волкова в домашних тапках шла бесшумно — я беззастенчиво грохотал по ступеням ботинками). Алина будто позабыла на этот отрезок времени о моём существовании. А я развлекался: путешествовал взглядом по её ногам. Прогулка завершилась у знакомой двери, помеченной (нарисованными под трафарет) белыми цифрами «четыре» и «восемь». Алина чиркнула по замочной скважине ключом — распахнула дверь. Первая шагнула в квартиру, щёлкнула клавишей выключателя на стене. Обернулась.
— Входи, Иван, — сказала Волкова.
Я выполнил её просьбу, закрыл за собой дверь. Вдохнул пропитанный несвежим, но хорошо ощутимым запахом табачного дыма воздух. Скользнул по прихожей взглядом. Не обнаружил на полу ковровую дорожку. Заметил на стене светильник с желтоватым плафоном и большое прямоугольное зеркало — рассмотрел в нём своё отражение. Убрал со лба чёлку. Но долго собой не любовался. Потому что услышал громкое мяуканье.
Обернулся на звук — увидел, как к ногам Волковой метнулся белый пушистый комок с оттопыренными острыми ушами: Барсик. Котёнок потёрся об обувь хозяйки. Запрокинул голову и снова пожаловался на жизнь (его резкое «мяв» не походило на приветствие). Алина присела, подхватила Барсика на руки. И поспешила на кухню: оставила меня скучать в прихожей в одиночестве. Я внимательно осмотрел линолеум вблизи своих ног, но не заметил блеск луж. Поэтому всё же снял ботинки, пристроил их на обувную полку. Повесил на крючок куртку. И осторожно, словно по минному полю, пошёл на звуки кошачьего голоса.
Вошёл в кухню — невольно вскинул от удивления брови. Не потому что Волкова призывно помахивала ягодицами, торопливо затирая тряпкой оставленные котёнком на полу лужи. Меня удивило малое количество мебели на кухне — точнее, почти полное её отсутствие. Помимо невысокого пожелтевшего от времени холодильника и электрической плиты с тремя конфорками, я заметил здесь стандартную для «финских» квартир большую мойку (с тремя дверками), покрытую слоем нержавеющей стали. Под окном обнаружил слегка покосившийся стол и массивный деревянный табурет.
Озадаченно хмыкнул, поправил очки. И снова огляделся — убедился, что ничего не пропустил: мойка, плита, холодильник, стол и табурет — вот и вся обстановка. Подумал, что для кухни площадью девять квадратных метров такого количества предметов мебели явно маловато (даже для советских времён). Поинтересовался причиной такой спартанской обстановки у Алины — та как раз повернулась ко мне головой, а не ягодицами.
— А зачем здесь что-то ещё? — сказала Волкова. — Сюда кроме меня никто не приходит: даже бабушка не заглядывает. Ну и… вот ещё Барсик теперь тут живёт. Но ему мебели хватает. Как и мне. Правда, Барсик?
Котёнок мяукнул, словно действительно согласился с хозяйкой. Он прятался за ножкой стола, прижимал к голове уши. С опаской посматривал на половую тряпку в Алининых руках.
— Я сюда поднимаюсь, только чтобы… побыть в одиночестве, — сказала Алина. — Накатывает на меня временами такое желание. Ну и… курю я здесь, как ты, наверное, уже понял: бабушка не любит запах сигарет.
Она выпрямилась, отбросила на спину собранные в хвост волосы. Одёрнула приподнявшийся подол халата — спрятала за тканью бёдра. Нахмурилась, сверкнула в меня недовольным взглядом, словно я её рассердил.
Волкова указала рукой мне за спину.
— Иван, ступай пока в гостиную, — сказала она. — Там мебели больше чем здесь: есть даже кресло и диван. Подожди немного. Я приберусь здесь, накормлю Барсика и приду к тебе.
— Ладно.
Я пожал плечами и побрёл осматривать квартиру. Прошёл мимо дверей в туалет и ванну, заглянул в ближайшие комнаты — с порога осмотрел полупустые помещения: без мебели, лишь с разнокалиберными картонными коробками на полу. Прошёл в гостиную. Алина не обманула: в самой большой из комнат я действительно нашёл диван-кровать и кресло на деревянных ножках. Ещё увидел там старенький сервант (с антресолью), на стеклянных полках которого приметил не только посуду, но и две стопки тех самых блокнотов, которые в школе изредка замечал в руках своей соседки по парте. Рядом с креслом обнаружил журнальный стол — на нём стояла большая хрустальная пепельница, лежали три пачки болгарских сигарет «Родопи» и две шариковые ручки.
Но обо всех прочих находках я позабыл, когда заметил шестиструнную гитару. Та скучала у стены, рядом с креслом, словно дожидалась моего появления. Я бережно взял её в руки, приглушил струны, огляделся. Кресло мне не понравилось — расположился на диване.
* * *
Алина вошла в комнату, когда я уже освоился с новой гитарой и признал её лучшим музыкальным инструментом из тех, которые брал в руки в этой «новой» жизни. Решил, что по качеству звука Алинина гитара на голову превосходила и мою «ленинградскую», и «колючую» гитару Полковника, и «послушную старушку» Лёни Свечина. «Не „Гибсон“, конечно, — подумал я. — Но и далеко не дрова». Бросил взгляд на Алину Волкову. Отметил, что модный халат («с перламутровыми пуговицами») моя одноклассница сменила на старый и потёртый: тот самый, который я видел на ней в этой самой квартире в её день рождения. Погладил струны — вновь прислушался к их звучанию.
Наблюдал за тем, как хозяйка квартиры проследовала к окну и открыла его нараспашку: не форточку, а само окно. К мелодии струн добавился едва различимый звук дребезжания задрожавших больших оконных стёкол. Я напрягся, отложил гитару. Но Алина скользнула безразличным взглядом по небу, повернулась к окну спиной и направилась к журнальному столику. Я вновь расслабился, лишь когда девица уселась в кресло, забросила ногу на ногу — нацелила в меня колено. Волкова вынула из кармана халата коробок спичек, достала сигарету. Она откинулась на спинку кресла и затянулась табачным дымом. Опустила глаза — взглянула на гитару.
— Это мамина гитара, — сказала она. — Дедушка привёз её из Германии: после войны. Мама часто на ней играла, когда возвращалась домой. Она любила петь. Она очень хорошо пела.
Волкова выдохнула в сторону окна струю дыма.
— В тот день она тоже пела, — сказала она. — Это был старинный романс. Мы с бабушкой подпевали. А потом у мамочки разболелась голова — внезапно и очень сильно.
Смахнула скользнувшую по щеке слезу.
— И вечером она умерла, — сказала Алина, — не дождалась врачей скорой помощи. Лежала на диване. Уже мёртвая. Красивая. А гитара стояла рядом с диваном, около стены.
Я поёрзал на месте, поправил очки — сквозь чуть запотевшие линзы смотрел на одноклассницу.
— Сегодня годовщина маминой смерти, — сказала Алина. — В этот день я не хожу в школу. И ни с кем не общаюсь. Даже с бабушкой: мы с ней по-разному переживаем эту дату.
Девчонка вновь прикоснулась сигаретой к краю пепельницы.
— Так было… раньше, — сказала Волкова. — Так происходит и здесь, в Рудогорске. Поэтому я не настроена разговаривать с тобой, Иван. Не сегодня. Прости. Просто… не могу.
Она дёрнула плечами.
Я откинулся на спинку дивана, поправил очки. Смотрел на замершую в кресле рыжеволосую десятиклассницу; и на тонкую струю дыма, что поднималась от кончика её сигареты и неторопливо змеилась в направлении окна.
— Сегодня я попросту не хочу слушать ни о хоккее, ни о чём-либо ещё, — сказала Алина. — Извини, Иван. Я вчера предупреждала тебя об этом. Помнишь? Ты не послушал. Так что не обижайся.
* * *
Я не обиделся.
* * *
Монотонное биение моего сердца отзывалось в висках и в затылке болевыми уколами. Запах табачного дыма щекотал в носу. Язык словно присох к нёбу: будто я испытывал жажду уже несколько дней. Заполненный мочевой пузырь не соглашался с утверждением языка: он беспрестанно направлял мозгу предупредительные сигналы, грозился уже в ближайшие минуты «расползтись по швам». Натруженные мышцы повиновались неохотно. Они постанывали, в точности как после первого «силового» занятия в тренажёрном зале. Поэтому я пока не беспокоил их: лежал, не шевелился.