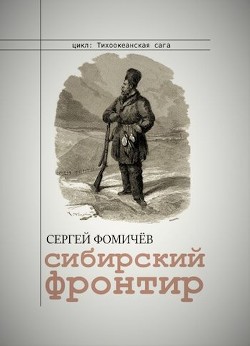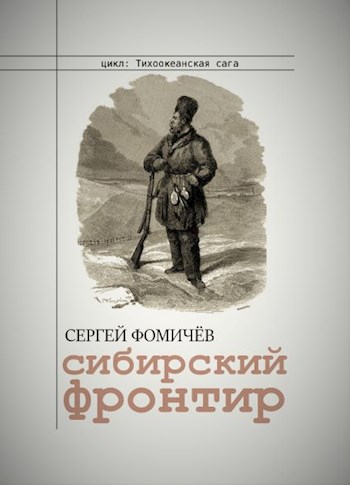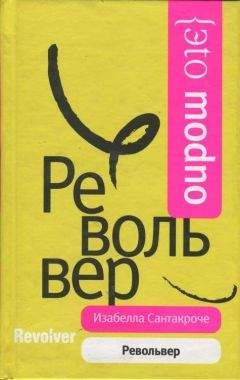Возле одного из шитиков Оладьин отыскал нужного человека. Тот распоряжался небольшой артелью из полудюжины плотников. Правая рука у мастера висела плетью, зато левой он ловко раздавал подзатыльники подчинённым.
– Чекмазов, бывший зверобой, – сообщил Василий. – Вместе с ним не раз вдоль камчатского берега ходили, бобра добывали. Руку покалечил на промыслах, когда за моржом на север пошли. Теперь вот плотничает. Чинит корабли, латает острог, рубит дома. Церковь новую тоже с его помощью ставили.
Заметив Оладьина, мастер спрыгнул с низенького борта. Подошёл, обнял нашего спутника здоровой рукой. Тот что–то шепнул товарищу на ухо.
– Не думал, что так скоро вернёшься, – сказал корабельщик.
– Деридуб здесь? – спросил Оладьин.
– Давно уж не видел. Ещё весной ушёл на заимку. Там вместе с Катькой и живёт, – ответил Чекмазов и весело крикнул парням. – Кончай работу, варначье семя!
Кажется, он и сам рад был поскорее убраться отсюда, но народ проявил куда больший энтузиазм. Мы и словом не успели перекинуться с мастером, а его артельщики уже исчезли. После ухода единственной бригады верфи вымерли окончательно.
– Кому оно надо? – жаловался по дороге Чекмазов. – Бобра у наших берегов почти не осталось, на Кроноцком мысе выбили всё, а к островам дальним не каждый пойдёт. Тут ведь арифметика простая – на жизнь с камчадалов или коряков собрать легче, чем головой на промыслах рисковать. Мне вон Кочмарёв "Троицу" заказал достроить, а что там достраивать, перестраивать нужно. За год уже и доска рассохлась, перешивать надо. Корабль бы в том году закончить, но средств не хватило у Кочмарёва. А теперь на переделку, опять не хватить.
– А этот красавец, чей будет? – показал Окунев на давешний корабль. – На нём, пожалуй, можно и к островам пойти.
– Никифорова кораблик, – охотно пояснил Чекмазов и повернулся к Оладьину. – Да ты помнишь его, он в прошлом году ещё хотел промыслами заняться.
– Помню, – кивнул зверобой. – Меня Петька Шишкин к ним зазывал.
– Хороший мужик Никифоров, – одобрительно произнёс мастер. – Сам торговал, сам корабль строил, сам и промышлять думал. Кораблик–то вышел хоть куда, да вот будет ли толк. Замахнулся Ваня на рубль, а ударил на пятак. Тоже средств не достаёт на оснастку. Промедлит ещё с год, и пойдут починки...
Сведения о бедственном экономическом положении здешних промышленников я намотал на ус. Пожалуй, тут можно потаскать карасиков.
Изба корабельщика стояла возле самой реки, немного выше верфей по течению. Дворик выглядел куда скромнее многих окрестных хозяйств, но отличался необыкновенной опрятностью. Причина такой исключительности открылась нам в доме. Молодая камчадалка, сидя на лавке, перебирала охапку крапивы. Ей помогала девчушка лет шести, а рядом пацанёнок чуть постарше мастерил что–то из обломка доски. Эдакая семейная идиллия, недоступная большинству пионеров.
Я заметил, с какой тоской Окунев посмотрел на домашний уют в доме приятеля и только теперь понял, что смущало меня в пейзажах камчатских городков. Здесь почти не встречались старушки, стайки которых собираются в любой деревеньке империи. Вообще женщины были редкостью. Казаки в отсутствие священников привыкли иметь жён держимых, которых забирали, порой по принуждению из туземных становищ. Дикарку, потерявшую молодость или попросту надоевшую всегда можно было отправить обратно в племя, а то и вовсе перевести в холопки. Удобно. Неудивительно, что когда церковь нагоняла первопроходцев, те не спешил менять привычки. Так и брали наложниц, отмахиваясь от увещеваний докучливых попов. Однако и настоящего семейного уюта мало кто из пионеров изведал. Оттого городки больше напоминали вахтовые посёлки каких–нибудь нефтяников или старателей. С той лишь разницей, что у большинства населения вахта длилась целую жизнь.
Представить гостям семейство Чекмазов не посчитал нужным. Войдя, перекрестился на икону и пригласил нас к столу. Жене он слова не сказал, но та, почувствовав, что люди пришли по делу, сразу увела детей в соседнюю комнату.
Мы выложили на стол нехитрые подарки. Соль, порох, табак, чай. Хозяин поблагодарил и тут же прибирал всё, кроме чая. Отломив от плитки здоровый кусок, положил его в котелок с горячей водой и поставил томиться возле печи.
Пока чай заваривался, Оладьин рассказал, зачем мы явились на Камчатку и куда собираемся следующим летом. Выслушав приятеля, мастер потеребил задумчиво бороду.
– Ох, господа хорошие, в самую пасть суётесь, – сказал он. – Приложит вас по хребту. Тут пришлых не любят, да и со своих норовят шкуру спустить.
– Авось не спустят, – сказал я. – Скажи лучше, где на эту братию посмотреть можно?
Разливая по кружкам чай, Чекмазов пояснил, что местные заправилы собираются в корчме, которая стоит под самой стеной острога. Там же можно подыскать и парней для найма и к мехам прицениться. Судя по его словам, заведение являлось сосредоточием местной жизни, служило одновременно и "салуном", и "клубом", и "биржей". И хотя беднота предпочитала готовить дома, так выходило сильно дешевле, пропустить чарку в корчму заглядывали многие.
– Сейчас как раз все там собрались, – сказал мастер. – Обедают.
– Пожалуй, загляну туда, разведаю, что к чему, – решил я, сделав для приличия маленький глоток вонючего чая.
Чиж встал из–за стола на миг раньше меня. Поднялись и Комков с Яшкой. Лишь Оладьин продолжал хмуриться, не двигаясь с места.
– Надо бы сперва со знакомыми переговорить, – сказал он. – Выведать обстановку, а уж потом к волкам соваться.
– Вот ты, Вася, и выведай, – согласился я. – А мы в кабак сходим, на людей взглянем, разговоры послушаем.
– Ничего ты там не услышишь, – буркнул зверобой. – Делишки они на людях не обсуждают, по домам шепчутся, по заимкам далёким собираются.
– Да мне пока и не нужны тайны, – усмехнулся я. – Просто прочувствовать охота, чем народ дышит...
***
Дышал народ скверно. Заведение переполнял табачный дым и сивушный дух. После нескольких недель свежего морского ветра у нас с непривычки заслезились глаза, запершило в горле. Пили и курили здесь, кажется, все, а ведь Оладьин да и другие знатоки утверждали, будто среди камчатских промышленных много староверов, ушедших на самую кромку земли подальше от властного ока. Если так, то странные это были староверы. Или маскировались усердно или вольные ветра Сибири размыли даже строгие устои раскольников.
Общество в "салуне" собралось тёртое. Казалось бы, здесь, в медвежьем углу, любой гость должен вызывать интерес. Телевидения и радио нет, газеты сюда почти не доходят, а те немногие, что появляются с большим запозданием, всё равно о местных делах не пишут, так как издаются аж в Петербурге. И потому единственным переносчиком новостей остаётся путник. Но каких–то заметных эмоций наше появление не вызвало. Равнодушные взгляды качнулись лениво в сторону двери, но, будто увязнув в табачном чаде, тут же погасли. Монотонный гул, слитый из разговоров, кашля, громыхания посуды, скрипа лавок, продолжился без малейшего сбоя. "Хлеб да соль", произнесённые по привычке Макаром, канули в этом гуле, как в омуте. Лишь несколько человек, что сидели возле самого входа, неодобрительно покосились на Чижа. Оно понятно. Туземцев среди публики я не заметил. Ну, хоть чем–то мы смогли их пронять.
Безразличие завсегдатаев меня, впрочем, вполне устраивало. Я надеялся подольше сохранять инкогнито да послушать тайком разговоры. Будь с нами Оладьин, которого на Камчатке знала каждая собака, номер бы не прошёл. Даже пропитанные спиртом извилины посетителей смогли бы сложить дважды два и легко вычислить, какого разбора явились гости. А так сохранялся шанс услышать что–нибудь любопытное.
Однако нас раскусили довольно быстро. Пока мы искали, где бы пристроиться вчетвером, к здоровому бородатому мужику, одетому в красную рубаху – как я уже разобрался, такая рубаха служила в своём времени аналогом малинового пиджака – пробрался мужичок поплоше (и телом, и рубахой, и бородой). Несколько слов, угодливо вложенных в мясистое ухо, заставили его обладателя взглянуть на нас повнимательней. Что ж, интерес оказался взаимным. Здоровяк выглядел подлинным хозяином жизни. Он сидел равный среди прочих, но общество как–то подспудно вращалось вокруг него.