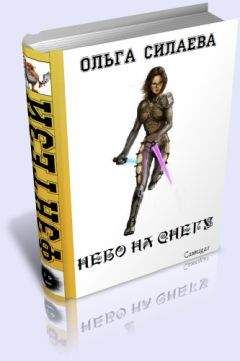Тело среагировало на падение болью. Но боль появилась не в области копчика — в груди. Воздух с резким шипением вырвался из моих ноздрей. Я клацнул зубами чудом не прикусил язык. Упёрся в снег ладонью — не повалился на спину. Рассмотрел лежавший на тротуаре в паре шагов от меня молоток. Не разглядывал его долго — тут же отыскал взглядом Боброву. Увидел, как Надина рука направила дуло револьвера поверх меня (на Пимочкину), и как её палец нажал на спусковой крючок. Вот только звук выстрела я не услышал. «Почистить бы надо», — вспомнил слова Аверина.
Не дожидался, пока Боброва устранит неисправность в револьвере — перекатился на бок, рывком поднялся на ноги. Вздрогнул от резкой боли в груди; поморщился, услышав треск разорвавшихся ниток на своём пальто. И вновь заглянул в дуло нагана. Теперь оно смотрело мне в переносицу. Не играл с ним в гляделки — шагнул ему навстречу. Накрыл револьвер ладонью, отвёл его ствол вниз и в сторону от своего лица. И тут же ударил Боброву в челюсть. Свинчатка врезалась в человеческую кость. Надина голова запрокинулась. Бить по ней второй раз я не стал: смотрел, как бесчувственное тело повалилось на землю.
«Молодец, Димочка, — подумал я. — Настоящий комсомолец. Вырубил с первого удара. Девушку. Свинцовым кастетом». Пнул выпавший из руки Надежды наган — отбросил его в сугроб. Склонился над Бобровой. Не искал на её шее толчкообразные колебания стенок артерий. Перевернул тело девушки на живот, стащил с себя шарф. Отработанными на маньяках движениями связал Наде за спиной руки. Спешил: с каждым мгновением я чувствовал всё меньше сил и желания с Бобровой бороться. Должно быть, навалился тот самый «отходняк», что наступал не только после пьянки, но и после сильного волнения и тяжёлой работы.
А ещё вернулась уже подзабытая за почти пять месяцев жизни в молодом теле сердечная боль. «Неужто я так перенервничал?» — промелькнула в голове мысль. Опустился на колени: почувствовал головокружение. Повернулся к Пимочкиной. Света сейчас походила на памятник Пушкину — такая же неподвижная. Прижимала к груди варежки, смотрела на меня и на тело Бобровой, приоткрыв рот. Увидел у ног комсорга знакомую шапку — не сразу сообразил, что это моя: не понял, когда её потерял. Мысленно махнул на неё рукой. И тут же махнул рукой уже по-настоящему: Светлане — привлёк её внимание.
— Дай мне свой шарф, — скомандовал я.
Звуки моего голоса вывели Пимочкину из оцепенения.
Девушка на шаг попятилась.
— Зззачем? — спросила она.
— Ноги ей свяжу.
— Зззачем? — повторила Света.
— Чтобы не убежала, когда очнётся, — сказал я. — Нет у меня желания бегать за ней по парку. Да и сил… не осталось.
Проскрипел зубами: головокружение и боль в груди с каждым мгновением усиливались. «Пять месяцев отдыхал от них — отдых подошёл к концу: пора вспомнить былые развлечения, Димочка». Я хмыкнул своим мыслям, проверил узел на руках Бобровой. Земля снова попыталась выскользнуть из-под моих ног — я пошатнулся. Опёрся ладонью о Надину ягодицу, чтобы не упасть. «Тебе бы только баб щупать», — упрекнул сам себя. Не улыбнулся собственной шутке. И не сменил положение левой руки. С правой руки стряхнул ненужный теперь кастет, протянул её в направлении Пимочкиной.
— Шарф давай! — повторил я.
На этот раз комсорг послушалась: торопливо стащила с себя шарф, протянула его мне.
— А… почему Надя в тебя стреляла? — спросила Пимочкина.
— У неё спросишь.
Я обмотал Светиным шарфом ноги Бобровой. И лишь после этого позволил себе сесть — на тротуар. Перевёл дыхание. Посмотрел на циферблат часов — поднёс его к лицу. Сквозь сгустившийся перед глазами туман не без труда разглядел положение стрелок. Начало первого. Почувствовал, что мои губы изогнулись в глуповатой улыбке. Подумал: «У меня получилось. На День студента Пимочкина не умерла». Ветер приятно холодил непокрытую голову. Я продолжал улыбаться — смотрел на прятавшуюся за полупрозрачной пеленой фигуру комсорга. «И где там эти «случайные прохожие»? — промелькнула в моей голове мысль. — Пора бы им появиться. Вызовут милицию».
— Саша, у тебя кровь, — сказала Светлана.
— Знаю.
Я посмотрел на скопившуюся радом со мной красную лужу. Та казалась неестественно тёмной на фоне белого снега. Блестела: отражала свет фонаря. «Прилично набежало, — отметил я. — Метко попала. Ворошиловский стрелок». Сидеть становилось всё труднее: сил оставалось всё меньше. Тротуар наклонялся. Я упёрся в него ладонью, мешал ему приблизиться к моей голове. Но сил противиться падению не осталось. Не справился с гравитацией. Рука согнулась в локте — моё плечо устремилось к скрывавшему асфальт снежному слою. Боли от удара не почувствовал: она растворилась в той, что обжигала грудь.
— Помогите! — закричала (где-то вдали) Света Пимочкина.
На её зов откликнулась трель милицейского свистка.
«Так бы и сказали: «патруль», — подумал я. — А то… «случайные прохожие»…»
Глава 34
Я спал. И видел сон, в котором, будто наяву, вновь оказался в Пушкинском парке. Не ночью, а днём (снег серебрился под ногами и на деревьях, заставлял меня жмурить глаза). Да ещё и будучи самим собой (высоким, но уже не юным), а не Александром Усиком. Я окинул рассеянным взглядом памятник (порадовался встрече с ним, словно со старым знакомым). Побрёл по аллеям. Смотрел на новенькие фонарные столбы, на скульптуры из снега (ничего подобного в тысяча девятьсот семидесятом году здесь не видел). Разглядывал парк и людей. Всё вокруг казалось смутно знакомым, но… уже непривычным.
Я не увидел на прохожих в парке ни одной шапки из меха. Зато замечал на их одежде логотипы известных брендов. Навстречу мне шли подростки с телефонами в руках (с пирсингом на лице и с голыми щиколотками) — они говорили вслух, будто диктовали тексты мемуаров. Молодые мамашки катили по тротуару коляски, умудряясь при этом заглядывать в смартфоны. Собачники вели на поводках питомцев. Чувствовал боль в груди — там, куда попала револьверная пуля. Но раны на груди не обнаружил. И это было ещё одним подтверждением догадки о том, что всё вокруг меня в этом парке — лишь сновидение.
Помнил, как дожидался Свету Пимочкину около памятника поэту, как поскользнулся и упал после выстрела, как разоружил и связал Надю Боброву. Произошло это там: в реальном мире, не во сне. Не сомневался: Света Пимочкина не погибла от удара молотком. Я слышал, как она звала на помощь. И помнил её слова: «Саша, у тебя кровь». Или это случилось в другой реальности? А я вернулся в тот мир, где до тысяча девятьсот семьдесят пятого года бесчинствовал Горьковский душитель, в почтенном возрасте умер на свободе Зареченский каннибал, а комсорг Света Пимочкина всё же погибла двадцать пятого января?
Посмотрел на часы. Не на те, что достались от Комсомольца, а на подарок мне «настоящему» от Главы Республики Карелия. Взглянул на время и на дату. Двадцать пятое января, полчаса после полудня. В этот день и примерно в этот час Людмила Сергеевна Гомонова ежегодно приносила к памятнику Пушкина гвоздики — в память о погибшей сестре. Сунул руку в карман, повинуюсь полузабытой привычке, достал смартфон. Палец пробежался по экрану — отыскал знакомые номера. Младший сын на вызов не ответил. Вместо голоса старшего я услышал женский: тот уведомил, что я могу оставить голосовое сообщение.
Сон стал бы приятным, если бы в нём я снова услышал голоса своих мальчиков. Но даже во сне мои сыновья не стремились к общению с родителем. «Очень правдоподобно, — отметил я. — Всё, как в реальности — в той, в прошлой». Спрятал телефон, разочаровано вздохнул. Пнул небольшую льдинку. Та бесшумно врезалась в сугроб. Боль в груди всё усиливалась — добавляла сновидению реалистичности. Прижал руку к груди (по привычке). Впереди увидел каменную голову Пушкина. Сообразил, что вновь приближался к площадке около памятника. Не заметил, как обошёл Пушкинский парк по малому кругу.
Цветов около памятника я не увидел. Ни тех, что мог принести сюда я, ни гвоздик Людмилы Сергеевны. В прошлом (или в будущем) Гомонова никогда не опаздывала — приходила в парк ровно в полдень. А около памятника появлялись гвоздики. Каждый год. Теперь их не было. Я прижимал к груди ладонь, словно мог так успокоить боль. Оттягивал ворот куртки: мне казалось, что тот меня душил. Напоминал себе, что Света Пимочкина не умерла — во всяком случае, не двадцать пятого января тысяча девятьсот семидесятого года. Двадцать шестого января того же года я точно видел её живой.