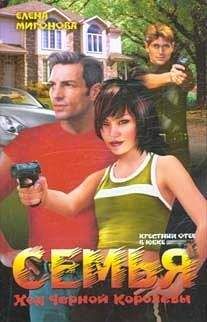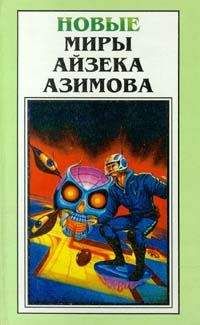Гудков всем предложил вечером посмотреть нашу постановку «Кулацкие брюки и райские муки». Мужики ещё больше скисли, а один, который оказался рядом со мной, тихо и печально спросил:
— Слышь паря, у тя выпить есть?
— Нету, — покачал головой я, и мужик моментально потерял ко мне интерес.
Я же сидел, ел вкуснейшие щи, не замечая вкуса, и размышлял, как обойти всех их и кольнуть шилом так, чтобы они и не заметили?
— Моня, — тихо прошипел я, — можешь, отвести всем глаза?
Моня материализовался передо мной и сконфуженно вздохнул:
— Их слишком много. Не смогу.
— И что мне теперь делать? — одними губами прошептал я. Но мои переживания были зряшными — за чавканьем, прихлюпыванием и разговорами мой шепот всё равно никому не было слышно.
— Их надо напоить, — предложил Моня. — У них сразу бдительность и воля ослабнут и тогда я смогу.
— Как? — покачал головой я, и женщина-коммунарка, приняв мой жест на свой счет, сразу подложила мне ещё кусок хлеба.
— Енох говорил, что видел самогон в одной хате, — вспомнил Моня и радостно оклабился.
— Да, видел! — Енох появился тоже, раздуваясь от гордости.
— Они же не пьют! — удивился я.
— Так им для разведения красок. Они холсты красят, — пояснил Енох.
— Пошли! — я решительно отложил ложку и с сожалением взглянул на недоеденную тарелку со щами.
— Да ты доедай! — возмутился Енох, — и так похудел как. А хозяйка сейчас дома. Но уйдёт скоро доить корову на пастбище и тогда пойдём.
Не буду описывать, как я выкрал эту бутыль. Это была литровая бутыль с мутным вонючим самогоном, заткнутая кукурузным початком. И когда перед премьерой постановки я зашел в дом, где коммунарки разместили мужиков, и предложил им выпить по маленькой, за знакомство — я стал им лучшим другом и практически родным братом.
— Наливай! — строго велел старший из них и добавил, — меня Лукой зовут.
— Чарка только одна, — извиняющимся голосом сообщил я и налил первую стопку до самого верха.
— Это ничего, мы привычные, — отчётливо сглотнул Лука и посмотрел на чарку влюблёнными глазами.
— Чай не баре какие! — суетливо добавил второй, тщедушный мужичок, — советские труженики как-никак!
— Примите, дядя Лука, — я вежливо протянул чарку Луке.
Тот моментально цапнул, поднёс ко рту, но потом, опомнившись, вежливо спросил:
— А сам-то чё?
— Мал я ещё, — скромно ответил я, — кроме того, премьера же через час будет. Гудков, если унюхает, наделает такого скандалу, уж я его знаю. А то и выгонит меня с агитбригады. Ещё и вам потом попадёт, что пацана напоили. Так что я лучше потом выпью, после премьеры.
— И то правда, — согласился Лука и крякнул, — Ну, будя!
Он проглотил самогон залпом и шумно выдохнул.
Мужики проследили глазами и заволновались.
— Ну давай уже! — раздраженно велел мне тщедушный, отбирая стопку у Луки и торопливо протягивая мне, — наливай как ему!
В общем, меньше, чем за полчаса все уже были хорошо поддатые. Ну а что — крепкий самогон, да без закуски, да на старые дрожжи. Мужики вышли во двор на перекур, где разделились на группки и горячо и убедительно заговорили все разом, не слушая друг друга.
— Моня, давай! Отводи! — велел я, и Моня отвёл.
Я торопливо обошел окосевших мужиков, коля их шилом.
— Изыди!
— Изыди!
— Изыди!..
Нити исчезали. Одна, вторая… четвёртая.
На последнем мужике из небольшой летней кухни во двор влетел Митрофан:
— Ты что это творишь, падаль! — вызверился он на меня.
— Что не так? — попытался прикинуться валенком я, недоумевая, где он был и как он почувствовал, что я делаю, на расстоянии?
— Да я тебя, тварь, сейчас самого придушу! Щенок! — Митрофан бросился ко мне и влепил оглушительную затрещину, так, что я аж отлетел к крыльцу.
— Сам ты тварь! — вне себя от злости, я подхватился и ринулся на Митрофана, сжимая шило в руке. Подбежав к нему за три шага со всей дури вонзил шило в плечо и рявкнул:
— Изыди!
Ноль реакции. Наоборот, озверевший Митрофан, бешено вращая налитыми кровью глазами, отскочил, схватил вилы и бросился на меня.
Ну всё, капец мне, — сжимая шило, успел подумать я, когда удар вилами пробил мне ногу, но тут случилось неожиданное.
Со стороны сада, через калитку вдруг послышались громкие слова молитвы. Ускользающим краем сознания я заметил, как во двор вошел священник с иконой в руках и начал читать молитву над Митрофаном. И как дух Митрофана, мерцая чёрной зеленью, уходит из тела прочь.
Это же тот самый бабомужик! — успел подумать я, прежде, чем темнота окончательно поглотила меня.
Эпилог
Очнулся я от тряски. Не такая, чтобы сильная, но тем не менее, когда тряхнуло на колдобине, я сразу пришел в себя. Судя по мерно покачивающейся постели и общем сумраке — я ехал в фургоне. А так как пахло духами, полынью, нафталином и гримом — это был фургон Клары.
Не знаю, радоваться или огорчаться этому обстоятельству.
Судя по тому, как противно ноет и болит нога — я всё ещё жив и это точно не ад, а лишь расплата за мои грехи.
Фургон подпрыгнул опять, ногу прострелило болью, и я не сдержал стон.
— Очнулся, Чингисхан? — донесся ехидный голос Клары.
— Угу, — буркнул я.
— Вечно ты во всякие передряги попадаешь, — ядовито заметила она.
— А что случилось?
— Тебя без сознания нашли, раненого. Сектант тот на тебя напал, Митрофан, или как там его… Но ты его тоже здорово ранил. Поэтому нашим удалось его связать.
— А где он?
— Он уже в тюрьме умер.
— А поп?
— Какой поп? Ты опять бредишь, Генка? — Клара потрогала мне лоб холодной рукой, — да вроде нет.
Дальше ехали молча.
Фургон опять тряхнуло, я опять застонал, и Клара не удержалась:
— А знаешь, Генка, всё-таки хорошо, что ты не успел Зубатова мне приворожить…
— Почему? — сквозь зубы спросил я, пытаясь сдержать рвущийся от боли стон.
— Да он такой скотиной оказался… — расстроенно вздохнула Клара.
— А что он сделал?
— Ты представляешь, Анну и ее коммунарок НКВД арестовало по его обвинению в контрреволюционной деятельности, — свистящим шепотом горячо заговорила Клара, — Там сразу и суд прошел, и всех их приговорили к заключению.
— И много дали?
— Всем сроки от трёх до пяти лет. Теперь их отправят в лагеря, говорят, куда-то аж за Урал.
— А Зубатов причем?
— Дык он же на эту Анну глаз положил, а она оказалась тайной монашкой, ну и отказала ему. А он, когда понял, что там тайный монастырь, вместо коммуны этой — ужас как разозлился и сразу НКВД вызвал. И вот скажи, Генка, что он в ней нашел, а?
Я промолчал. А в голове билась единственная мысль — что теперь делать?