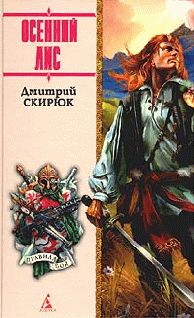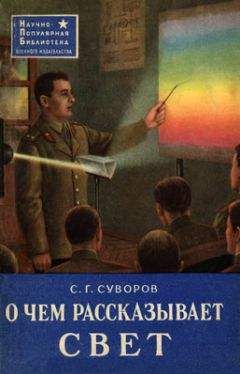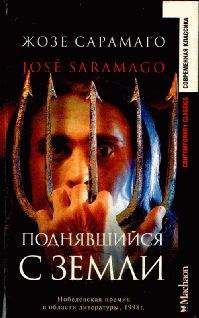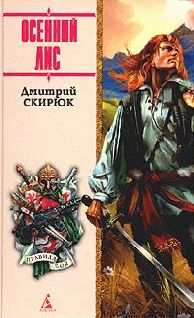– Ладно, хоть просохли.
– И то правда.
Натянув сапоги, Вайда улегся на одеяле и потянул к себе небольшой округлый сверток синего бархата. Развернул.
Внутри оказалось что-то вроде бандуры, только поменьше, и с девятью струнами. Жуга несколько удивленно смотрел, как тот, любовно погладив ладонью пузатое деревянное донце, стал подстраивать тонкие жилы струн.
– Ты еще и поешь?
Вайда прищурился хитро.
– А то как же!
– Ну-ну… – Жуга с сомнением потер подбородок.
– Сомневаешься? – усмехнулся тот. Струна натянулась, зазвучала басовито. Вайда взялся за вторую. – Сам посуди – как петь с этаким-то зубом, да еще по морозу? Тут уж, брат, я тебе скажу, не до песен…
– А теперь?
– А теперь – совсем другое дело… Отчего ж не спеть? – Он смолк, задумчиво глядя в огонь. Нахмурился, бездумно перебирая струны.
– Про что петь будешь? – полюбопытствовал Жуга.
– А? – встрепенулся тот, – вот, про него…– Он кивнул на костер и снова помрачнел. – Есть одна старая песня, не очень, правда, старая. Начало у нее веселое, а вот конец… Впрочем, слушай.
Вайда тронул струны.
Полилась мелодия, и вроде бы даже не грустная, но какая-то не такая – словно Вайда боялся громко играть, словно кто-то прятался за деревом, подслушивая. Струны пели мягко, упругим чистым перебором, и Жуга как-то упустил миг, когда в музыку вплелись рифмованные строки:
Коль заблудился ты в лесу,
Глухая полночь на носу,
И волки сходят с гор,
Спокоен будь: не тратя слов
Насобирай побольше дров
И разведи костер.
Когда застанет дождь в пути,
Не знаешь ты, куда идти,
Но коль твой нож остер,
Ты завернись плотнее в плащ,
Нарежь ветвей, построй шалаш
И разведи костер.
Когда на землю ляжет снег,
И солнце свой замедлит бег,
Забыв согреть простор.
Когда вокруг метет метель,
И лишь сугроб – твоя постель,
Твой лучший друг – костер.
Когда горит в ночи окно,
Искрится старое вино,
Кипит веселый спор,
Забудь свои обиды, друг,
Спеши скорей в тот тесный круг,
Где правит бал костер.
Огонь не добрый и не злой,
Но плоть становится золой -
Суд королевский скор:
Тому, кто хочет быть собой
И жизнь прожить с прямой спиной -
Один путь – на костер…
Песня закончилась.
Некоторое время оба молчали.
– Красиво, – наконец, сказал Жуга. – Только как-то жестоко.
– Какая жизнь, такие и песни, – вздохнул Вайда, пряча инструмент обратно в бархат. – Ладно, давай спать.
Развернули одеяла. Жуга подбросил побольше дров и передвинул костер в сторону. Смел угли. Закутавшись поплотнее, оба улеглись на прогретом пятачке земли, время от времени поворачиваясь с боку на бок, когда слишком припекало, и вскоре заснули.
* * *
Среди ночи Жуга вдруг проснулся.
Царила полная тишина. Снегопад прекратился, лишь одеяла у обоих были запорошены тонкой белой пеленой. Жуга сел и зябко поежился. Огляделся окрест.
Верховой полночный ветер расчистил небо, открыв бледный растущий месяц и густую россыпь звезд. Через небосвод, от края и до края дымчатой белой лентой тянулся чумацкий шлях. Костер почти погас, лишь тлели, догорая, угольки. Жуга пощупал землю под собою – та была еще теплой. Спать не хотелось, наоборот – голова была ясная, до звона в ушах. На душе было странно и тревожно – непонятно откуда накатило неясное чувство потери. Вот только… потери чего?
Он зевнул, встал, расправил и набросил на плечи одеяло. Огляделся в поисках шляпы. Смятая и скомканная, та отыскалась в изголовье, Жуга расправил ее и нахлобучил на голову. Во сне холод почему-то не так донимал, зато теперь проснувшееся тело срочно требовало тепла – тепла или движения – вдруг накатила резкая, неуемная дрожь.
– Спишь, Вайда? – вполголоса окликнул Жуга. Тот не ответил, и Жуга нахмурился.
Что– то было не так, и через миг Жуга понял, что именно.
Слишком уж тихо было вокруг.
Он опустился на колени и тронул друга за плечо.
– Рифмач, – снова позвал он. – Рифмач, очнись! Рифмач!
Тяжелыми каплями сочились минуты, а Жуга все тряс и тормошил спящего друга за плечо, за руки, за волосы, пока стынущее в снегу тело, страшно тяжелое и податливое, не завалилось вдруг с боку на спину и не замерло так. Холодный лунный свет посеребрил тронутые инеем волосы и бороду. Влажным блеском отразился в невидящих глазах. Жуга вздрогнул и отшатнулся.
Откуда– то из дальнего далека вдруг донесся тоскливый и протяжный волчий распев, отзвучал и смолк, не оставив после себя даже эха. Разом навалившись отовсюду, ватным комом вернулась тишина -ни шороха веток, ни снежного скрипа.
Ни сердцебиения, ни дыхания.
Вайда был мертв.
* * *
Отец Алексий – приходский священник – жил на отшибе, на самом краю села, и когда ранним утром в окошко постучались, он нисколько не удивился и молча пошел открывать: если входить в деревню с южной стороны, то его дом стоял первым, и прохожие люди в поисках ночлега, милостыни или воды частенько заходили сперва к нему, и только потом – к другим.
Стоявший на пороге хаты странник был молод и худ, смотрел устало, и опирался на посох. Рядом, соруженные из срубленной ели, замерли сани-волокуши; свежевыпавший снег еще хранил их неровный след – путник и впрямь шел с юга. Сверху, закутанное в плащ, лежало закоченевшее тело.
Священник все понял без слов, окликнул попадью. Та заохала, запричитала и, набросив старый тулуп, побежала за соседями. Вскоре явились два сонных ухватистых мужика, схожие фигурой и лицом – братья? – подняли покойника и куда-то унесли.
Деревня помаленьку просыпалась. Подходили люди, спрашивали. Плохие новости бежали скоро – к середине дня уже все знали о случившемся несчастье. Кое-какие деньги у рыжего паренька водились; кошель перешел из рук в руки. Две бабки взялись обмыть и убрать усопшего, Ондржей-столяр подрядился соорудить домовину.
Прихожего человека проводили в дом, усадили за стол. Попадья поставила самовар, собрала снеди – тот не притронулся к еде, лишь выпил чаю, и после, обсохнув и обогревшись в натопленной горнице, поведал в нескольких горьких словах, что и как случилось. Говорил он медленно, тяжело, часто умолкая и глядя в одну точку.
– Как звать-то тебя?
Паренек поднял рыжую голову.
– Жуга.
– А его… как звали?
– Вайда.
– Откуда он?
– Откуда шел – не знаю. В Стршей Кронице мы повстречались.
Священник помолчал.
– А промышлял чем?
– Ходил, странствовал… песни пел. Хорошие песни. Свои.
– Рифмоплет, что ль? – спросил отец Алексий. Жуга кивнул. – А сам ты кто будешь?
– Травник я… все в толк не возьму, от чего он умер. Земля ведь еще теплая была, когда я его поднимал.
– Верю.
– И ночью оттепель была…
– Да.
– Он не мог так просто замерзнуть.
– Наверное, не мог…
Бессильно подперев голову рукой, Жуга сидел за чашкой остывшего чая, изредка вороша рукой рыжие всклокоченные волосы. Поднял взгляд – в кривозеркалье начищенного самовара отразилось худое, изможденное лицо. Жуга прикусил губу и сжал кулаки.
– Куда его унесли?
– В церковь.
Жуга повернул голову.
– Мне нужно… туда.
– Сиди, сиди… Там и без нас все сделают, как положено. Вечером сходим.
Жуга некоторое время молчал, о чем-то размышляя, затем помотал головой.
– Нет, – сказал он, вставая. – У меня еще есть девять дней. Пойдем сейчас.
Отец Алексий ничего не понял, покачал головой, но перечить не стал, и молча принялся одеваться.
* * *
Бревенчатая маленькая церковь оказалась на удивление новой и ухоженной, вот только выстудилась изрядно. Светились лампады у икон. Где-то за стеной потрескивала печь – мягкими волнами оттуда расходилось тепло. Наверху, в купольном сумраке виднелись размытые лики стенной росписи. Пахло ладаном.
Гроб с телом Вайды стоял у алтаря. Горели свечи в изголовье. Переодетый и причесанный, рифмач лежал, словно живой, и лишь лицо его, непривычно бледное и спокойное, выдавало истину.
– Где его похоронят? – хрипло спросил Жуга и закашлялся. Звук заметался эхом в гулкой церковной пустоте и затих где-то в углу.
Отец Алексий пожал плечами.
– Здесь… А почему ты спрашиваешь?
– Не всегда лицедеев хоронят на кладбище.
– Он ведь православной веры?
Жуга не знал точно, но кивнул, нимало не колеблясь: «Да».
– Тогда, как и всех, – на погосте. Я поговорю с поселянами, к завтрему выкопают могилу.
Жуга покачал головой, поднял взгляд на священника, и голубые глаза его так ярко вдруг блеснули, отразив свечное пламя, что отцу Алексию стало не по себе.
– Не надо, – тихо сказал Жуга. – У меня нет больше денег.
Он покосился на гроб и снова вздохнул.
– Я сам буду рыть.
* * *
Солнце клонилось к вечеру, когда Жуга, скользя и опираясь на посох, медленно поднимался на гору, где примостилась низкая черная хибара деревенской кузни. В кузницу вела тропинка. Узкая и плотно утоптанная, она подходила к самым дверям ее и после убегала дальше, спускаясь к воде, к пробитой в речке проруби. В кузне явно кто-то был – тонким звоном пела под ударами молотка старая наковальня. Жуга не стал стучаться – все равно бы не услышали – и, подойдя, сразу открыл дверь, вошел и огляделся.