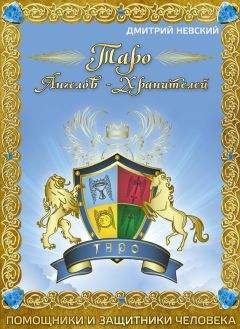«Я предвижу серьезные проблемы», – опять подумал он.
Можно было надеяться, что эти патроны еще годятся, и он сложил их в кучку, такую маленькую, что впору было придти в отчаяние. Двадцать. И из них несколько почти наверняка дадут осечку. Он не мог положиться ни на один из них. Вынув остальные, он сложил их в другую кучку. Тридцать семь.
«Что ж, у тебя и вначале было не так уж много патронов», – подумал он. Но он сознавал разницу между пятьюдесятью семью годными патронами и – возможно – двадцатью. А может быть, и десятью. Или пятью. Или одним. Или ни одним.
Роланд сложил сомнительные патроны в еще одну кучку.
Кошель у него все-таки остался. Это уже было кое-что. Он положил его к себе на колени, а потом медленно разобрал револьверы и совершил обряд чистки. К тому времени, как он управился, прошло еще два часа, и раны у него болели так сильно, что от боли кружилась голова; сознательно думать стало трудно. Хотелось спать. Никогда в жизни ему так не хотелось спать. Но когда выполняешь свой долг, приемлемых причин для отказа никогда не бывает.
– Корт, – сказал он голосом, который сам не мог узнать, и сухо засмеялся.
Медленно-медленно он собрал револьверы и зарядил их патронами, которые считал сухими. Когда это дело было сделано, он взял револьвер, предназначенный для левой руки, взвел курок… и вновь медленно опустил его. Да, он хочет знать. Хочет знать, услышит ли, нажав спуск, звук выстрела или только очередной бесполезный щелчок. Но щелчок ничего не будет значить, а выстрел только сведет двадцать к девятнадцати… или к девяти… или к трем… или к нулю.
Стрелок оторвал от рубашки еще кусок, положил на него другие патроны – те, что промокли, – и, орудуя левой рукой и зубами, завязал в узелок. Он положил их в кошель.
Спать, требовало его тело. Спать, ты должен поспать, сейчас, пока не стемнело, ничего не осталось, ты весь выложился…
Роланд с трудом встал и оглядел пустынный берег. Цветом он был похож на давно не стиранное белье. Он был усеян бесцветными ракушками. Там и сям из крупного песка торчали большие камни, покрытые птичьим пометом; старые слои были желтыми, как зубы древнего черепа, а более свежие пятна – белыми.
Линия прилива была отмечена сохнущими бурыми водорослями. Он увидел, что возле этой линии лежат куски его сапога и его бурдюки. То, что такие высокие волны не смыли его бурдюки в море, показалось ему почти чудом. Медленной походкой, мучительно хромая, стрелок подошел к месту, где они лежали, поднял один из них, поднес к уху и потряс. Второй был пуст. А в этом еще оставалось немного воды. Большинство людей не смогли бы отличить один от другого, но стрелок различал свои бурдюки, как мать различает своих двойняшек. Ведь он странствовал со своими бурдюками уже столько времени. Внутри плескалась вода. Это было хорошо – словно подарок. И тварь, которая напала на него, и любая из остальных могла бы разорвать этот бурдюк, или второй, одним небрежным щипком клешни, но не разорвала, и море пощадило его. Никаких следов самой твари не было видно, хотя оба они ночью оставались намного выше линии прилива. Быть может, ее утащили другие хищники; быть может, ее родня устроила ей похороны в море, подобно тому, как элефанты, гигантские звери, о которых он слышал в детстве, в сказках, будто бы сами хоронят своих умерших.
Роланд левым локтем приподнял бурдюк, жадно, большими глотками, напился и почувствовал, что к нему возвращаются силы. Правый сапог, конечно, погиб… но потом он ощутил искру надежды. Головка и подметка остались целы – исцарапаны, но целы, и, может быть, удастся обрезать второе голенище под пару этому, смастерить что-нибудь, чего хватит хотя бы на время…
Его исподволь охватила слабость. Роланд попытался бороться с ней, но у него подогнулись колени, и он неловко, прикусив язык, сел.
«Ты не потеряешь сознания, – угрюмо сказал он себе. – Не здесь, куда этой ночью может вернуться еще одна такая же тварь и довершить дело».
Поэтому стрелок встал и обвязал пустой бурдюк себе вокруг пояса, но, пройдя всего двадцать ярдов назад, к тому месту, где оставил револьверы и кошель, он опять в полуобмороке упал на землю. Некоторое время он лежал, прижавшись щекой к песку; в подбородок ему почти до крови врезался острый край ракушки. Он сумел напиться из бурдюка, а потом пополз обратно, туда, где проснулся. В двадцати ярдах выше на склоне росла юкка; дерево было чахлое, но все же давало хоть какую-то тень.
Эти двадцать ярдов показались Роланду двадцатью милями.
Тем не менее, он с великим трудом втащил то, что осталось от его хозяйства, в эту маленькую лужицу тени. Он лежал, уронив голову на траву, мало-помалу уплывая то ли в сон, то ли в обморок, то ли в смерть. Он взглянул на небо и попытался сообразить, сколько времени. Не полдень, но размер лужицы тени, в которой он лежал, говорил, что полдень близок. Стрелок еще несколько секунд не поддавался забытью, повернул правую руку и поднес ее поближе к глазам, ища красные полосы – признаки заражения, признаки того, что в него медленно проникает какой-то яд.
Ладонь была тускло-багрового цвета. Дурной признак.
«Спасибо, что хоть на спуск я могу нажимать левой рукой», – подумал Роланд.
Потом им завладела тьма, и следующие шестнадцать часов он проспал, и в его спящие уши непрерывно бил шум Западного Моря.
Когда стрелок проснулся, море было темным, но небо на востоке слабо светилось. Он сел, и волна дурноты почти захлестнула его.
Он нагнул голову и стал ждать.
Когда дурнота прошла, он взглянул на свою руку. Точно, заражение началось – багровый отек поднялся по ладони выше и захватил запястье. Там он кончался, но уже были заметны новые багровые полосы, пусть пока еще бледные, чуть видные, которые постепенно дойдут ему до сердца и убьют его. Ему было жарко, его лихорадило.
«Мне нужно лекарство, – подумал он. – Но здесь нет лекарств».
Так что же, он дошел сюда только для того, чтобы умереть? Он не умрет. А если ему, несмотря на его решимость, и суждено умереть, то он умрет на пути к Башне.
«Какой ты необыкновенный, стрелок! – хихикал у него в голове человек в черном. – Как ты неукротим! Как романтичен в своей дурацкой одержимости!»
«Пошел ты на хуй», – прохрипел Роланд и попил воды. Воды тоже оставалось не так уж много. Перед ним было целое море, да только что ему было толку от этого; вода, вода со всех сторон, ни капли для питья [цитата из поэмы С.Кольриджа «Старый Моряк»]. Ну, ничего.
Он надел и пристегнул патронные ленты, завязал их – эта процедура отняла у него столько времени, что до того, как он управился, первый слабый проблеск рассвета успел превратиться в настоящий сияющий пролог дня – и попытался встать на ноги. Он не был уверен, что ему это удастся, пока не убедился, что стоит.
Держась левой рукой за юкку, он подцепил правым локтем тот бурдюк, что был не совсем пуст, и перекинул его через плечо. Потом кошель. Когда он выпрямился, на него вновь нахлынула дурнота, и он нагнул голову, ожидая, не сопротивляясь.
Дурнота прошла.
Нетвердой, заплетающейся походкой пьяного, который вот-вот свалится, стрелок спустился к прибрежной полосе песка. Он стоял, глядя на океан, темный, как тутовое вино, а потом достал из кошеля остаток вяленого мяса. Половину он съел, и на этот раз и рот, и желудок приняли его более охотно. Он повернулся и начал есть вторую половину, глядя, как солнце встает из-за гор, где погиб Джейк – сначала оно словно зацепилось за эти пики, не покрытые деревьями, похожие на зубы какой-то жестокой твари, а потом поднялось над ними.
Роланд подставил лицо солнцу, закрыл глаза и улыбнулся. Он доел мясо.
Он подумал: «Отлично. Теперь я – человек, у которого нет еды, у которого на руках на два пальца, а на ногах – на один палец меньше, чем было, когда он родился; я – стрелок с патронами, которые, возможно, дадут осечку; от укуса чудовища я заболеваю, а лекарства у меня нет; воды мне хватит в лучшем случае на один день; если я выложусь до последнего, я смогу пройти, быть может, с десяток миль. Короче говоря, я – человек, во всем дошедший до края».
В какую сторону ему идти? Он пришел с востока; чтобы идти на запад, ему нужно могущество святого или спасителя. Оставались север и юг.
На север.
Стрелок двинулся в путь.
Он шел три часа. Два раза он упал и во второй раз думал, что уже не сможет встать. Но тут к нему прихлынула волна, достаточно близко, чтобы заставить его вспомнить о револьверах, и он сам не понял, как вскочил, и ноги у него дрожали, как ходули.
По его расчетам, за эти три часа он прошел около четырех миль. Теперь солнце грело все сильнее, но было не таким жарким, чтобы этим можно было объяснить стучавшую в висках боль или струившийся по лицу пот; и ветер с моря был не настолько силен, чтобы этим можно было объяснить внезапные приступы озноба, охватывавшего его время от времени, так, что все его тело покрывалось гусиной кожей, и зубы стучали.