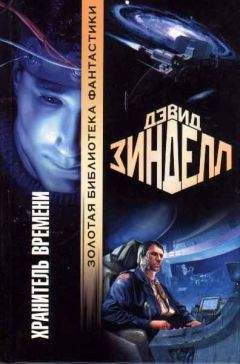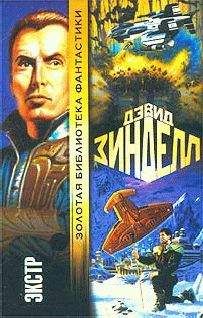– Это твоя вина, – заявил он и грохнул кулаком по столу так, что чугунная столешница загудела и прогнулась, точно барабанная кожа. – Это из-за тебя я стал конченым человеком.
– Из-за меня?
– Да, из-за тебя! Из-за твоего проклятого поиска! Тебе приспичило узнать секрет жизни, вот в чем вся беда. И мне тоже. Твоя мечта, моя мечта – ты заразил меня своим проклятым энтузиазмом. Эх-х… Мы были душой этого поиска, ей-богу! Но мы же его и убили, верно? Все в прошлом. Ты убил мечту и меня тоже. Бардо теперь совсем не тот человек. Горе, горе!
Он был сильно пьян, зато я – трезв, как цефик. Возможно, божественное семя у меня в голове выработало во мне иммунитет к алкоголю. Я хотел уйти, но Бардо сгреб меня за руку.
– Давай сделаем круг по катку.
– Ты пьян.
– Не настолько.
Мы вышли из кафе, прицепили коньки и выехали в центр большого Хофгартенского круга. В нескольких ярдах от нас группа только что вставших с постели кадетов упражнялась, выписывая восьмерки. Я хотел поддержать Бардо, который вихлялся на коньках, держась за налитое пивом брюхо, но он рявкнул:
– Пусти!
– Слушай, Бардо, ты по-прежнему пилот, по-прежнему мой друг, и…
– Друг, говоришь!
– Слушай меня! Поиск не окончен – он будет продолжаться, пока мы живы, и…
– Ты мечтатель, вот ты кто – ох, горе.
– Допустим, а вот ты боишься…
– Я боюсь? – взревел он. – Я не видел тебя два года, я думал, что ты умер, а ты всю ночь мелешь о чем попало, кроме самого главного. Я чересчур хорошо тебя знаю, паренек. Ты любишь представляться твердым, как алмаз, но в душе дрейфишь так, что того и гляди штаны намочишь. Попробуй скажи, что это не так! Ты намеренно, намеренно уклоняешься от разговора об Агатанге. Думаешь, я не знаю, что они там с тобой сделали? Отлично знаю. Я нагляделся ночью, как ты сидишь и все время смотришь в себя сквозь свои проклятые голубые гляделки, в точности как твой папаша. Посмотри на меня! Чего ты боишься? Я скажу тебе, чего: ты боишься потерять себя, так или нет? Я знаю тебя лучше, чем ты полагаешь. Ты боишься, что перестанешь быть человеком. Ну а кто не боится – скажи, кто? Человеческое естество уходит от каждого, оно гниет клетка за клеткой, кусок за куском, пока совсем не перестанет существовать. Ну, добавили они какие-то детали в твой мозг – что из этого? Жаль, что твои проклятые боги и мне заодно не вставили новые мозги. Мозг – он и есть мозг! Какая разница, из чего он сделан – из кремния, из поганых нейронов или из шегшеевого сыра? Ведь он твой, клянусь Богом! Когда у нас к старости глаза становятся мутными, разве важно, что резчик выращивает нам новые или вставляет искусственные, выдерживающие ультрафиолет и открывающие нам новые краски? Главное, что мы продолжаем видеть, так ведь? Мы видим, что хотим – а ты своим мозгом думаешь, что хочешь. Твои чертовы бредовые идеи приходят к тебе потому, что всегда приходили. Что в тебе было, то и осталось. Сказать тебе, чего я боюсь по-настоящему? Тебя, потому что ты бешеный!
Он меня действительно взбесил, и я долбанул лед носком своего конька.
– Не меня ты боишься, а себя, – сказал я и стиснул зубы, понимая, что те же слова можно отнести и ко мне.
– Ну что ты за человек? Ради тебя я подставил свою грудь под копье, клянусь Богом – потому, что я знал твой секрет, знал, как ты боишься умереть, до мокрых штанов боишься! – Он заморгал, глядя на меня. – И еще потому, что…
– Я тебе не верю. Под копье ты подвернулся случайно. Ты пьяный, дряблый трус, больше ничего.
Я пожалел об этих словах, из тех, которые друг никогда не должен говорить другу – все равно, правда это или нет. Особенно если правда. Я шевельнул губами, подыскивая другие слова, чтобы загладить те, жестокие, но слова не находились.
– А ты ублюдок, – сказал Бардо, – и твоя мать грязная слеллерша. Ты бешеный, опасный ублюдок-слельник.
Мне показалось, будто он шарахнул меня по лицу куском льда. Меня трясло, и я не мог двинуться с места. Бардо исчез из поля моего зрения вместе с другими конькобежцами в ярких камелайках. Только отливающий сталью лед бил мне в глаза резким белым светом. Целый океан звуков омывал меня: отдаленные голоса, скрип коньков, шорох ветра – но я ничего не видел. Не знаю, сколько я простоял там в своей слепой ярости. Когда красное, синее и зеленое снова появилось передо мной, как появляются цветы ложной зимой из-под снежного поля, я так и стоял один посреди шумного катка. Трусливый Бардо, самый старый мой друг, ушел.
Я покинул Хофгартен, решив найти его, пока он не упился в другом баре и не свалился в каком-нибудь темном закоулке Квартала Пришельцев. Я катил по улице Десяти Тысяч Баров. Утренний свет струился сквозь хрупкие обсидиановые хосписы и другие здания. Поперечные улицы были пустынны, и восточные ледянки пылали жидким огнем. Из люка одного хосписа вылезло несколько фраваши, усталых и голодных на вид. Они стерли ночные мембраны с глаз и стали пересвистываться на таких высоких нотах, что я разбирал разве что десятую долю их слов. Поравнявшись с группой сонных послушников, они взяли пониже, чтобы их певучая молитва стала понятна всем. Послушники неумело засвистали в ответ, благодаря пришельцев, и со смехом проследовали дальше, чтобы совершить утреннюю медитацию. В своих белоснежных одеждах и белых перчатках они походили на красивых кукол-солнцепоклонников.
На середине улицы быстро сновали туда-сюда ярко-желтые сани, нагруженные продуктами, одеждой и прочими товарами. Работающие на смеси водорода и кислорода, они через равные промежутки времени выпускали пар. Именно эти водяные выхлопы, оседая на стенах домов и тут же замерзая, одевали Город в серебро. Мне вспомнился мастер Джонат – наш с Брадо учитель истории во втором классе Борхи: он говорил, что на Старой Земле в Век Холокоста сани передвигались на смазанных колесах, а их стальные двигатели работали на углеводороде. Их выхлопные газы, утверждал он, были невидимы и совершенно безвредны. Джонат, ненавидевший холодные туманы, столь часто посещающие наш Город, стоял за то, чтобы убрать лед с наших прекрасных улиц и последовать примеру древних. Я помнил его слова так же ясно, как таблицу умножения. Добрый мастер Джонат со своими бородавками и длинными прямыми черными волосами – как терпеливо он излагал нам свой урок, пока мы с Бардо обменивались тычками на безобразном сером ковре в его квартире. Что за шутки выкидывает память, позволяя нам столь четко представить себя в юном возрасте? Почему более поздние события – например, тот случай, когда я, по утверждению Бардо, вышел из себя и чуть не убил Марека Кессе – вспоминаются нам куда более смутно?
Но какой бы несовершенной ни была моя память, чудо, свершившееся в то утро, я буду помнить всегда. Я катил по Променаду Тысячи Монументов, и тут с моим чувством времени стало твориться нечто странное. В тот миг, когда ледянка разделилась на два широких оранжевых рукава, время начало дробиться на бесконечно долгие малые величины. Здесь между северным и южным рукавами стояли на протяжении мили статуи, обелиски и прочие памятники в честь знаменательных событий – как прошлых, так и тех, которым еще предстояло случиться. Когда я миновал огромный грибовидный мемориал хибакуся, мне показалось, что послушники неподалеку от меня движутся с преувеличенной осторожностью – так медленно, словно их ноги вязли в ледяной каше Штарнбергерзее. Яркая вспышка красок внезапно ударила мне в глаза. Похвальба Тихо впереди резала воздух аметистовыми, бриллиантовыми и рубиновыми ножами. Эти чудовищные камни – некоторые с вековую ель вышиной – поднимались прямо из льда Променада. Они соединялись друг с другом, и красное переходило в синее, а золото в пурпур под самыми немыслимыми углами. Многим паломникам, посещающим Город, эта коллекция представляется беспорядочным нагромождением камней, фантастически дорогой палитрой случайных красок. Пилот видит эту композицию совсем по-другому. Толстые изумрудные колоды и тонкие сапфировые нити воплощают собой идеопласты, которые использовал Тихо, формулируя свое знаменитое правило. Он распорядился, чтобы лучшее творение его разума было представлено в материальной форме, и теперь на протяжении семидесяти ярдов Променада первая из двадцати трех лемм, необходимых для доказательства правила, блистает, увековеченная в переливчатых столпах. (Тихо желал, чтобы таким же образом были воплощены все двадцать три леммы, долженствовавшие занять полторы мили, но такой проект сочли слишком грандиозным. Орден и на первой-то лемме едва не разорился, хотя был тогда намного богаче и могущественнее, чем теперь.) Я ехал мимо кольчатых рубиновых глифов, представляющих теорему фокусов, когда время замедлило ход почти до полной остановки. Я никогда еще не испытывал такой протяженности мгновений без связи с нейросхемами своего корабля. Мне не верилось, что невооруженный мозг способен остановить время. На моей сетчатке отпечатались образы послушников, разинувших рты и застывших на полушаге, как белые статуи. Грохот саней и постукивание коньков растягивались, сливаясь в единый звук. Я, с выброшенной вперед одной рукой и откинутой назад другой, с застывшим на льду передним коньком, смахивал, должно быть, на один из глифов Тихо. В этот-то миг, когда несколько гагар повисло низко у меня над головой, а Город замер без движения, я и нашел Бардо.