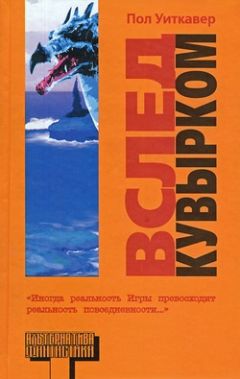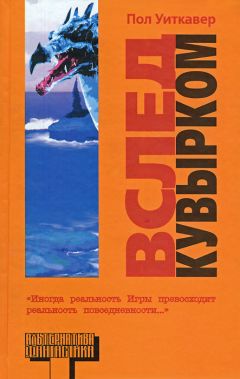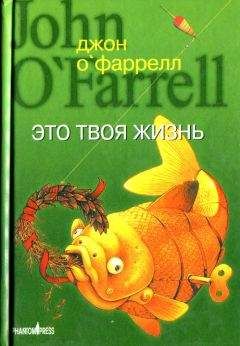– Милый мой мальчик, с чего ты это взял?
– Мне сказал Святой Метатель. После трехкратного вопрошания богов.
Кустистые брови Голубя поднимаются вверх.
– Трехкратного? И что же изволил сказать тебе Его Случайность? Точные слова, если припомнишь.
– Я их отлично помню, такое не забывается, мастер Голубь. Он сказал, что для меня у Врат Паломничества ничего нет.
– И ты предположил…
– Что тут предполагать? Ясно, как день.
– Ясно? Эти Шансом проклятые жрецы своими таинственными замечаниями приносят больше вреда, чем пользы. Похоже, они темнят с каким-то злобным удовольствием. Ты не провалил Испытание, юный Чеглок. Твоя пентада здесь.
Тут уж наступает черед Чеглока разинуть рот.
– Н-но как?..
– Дербник и Кобчик с ними столкнулись у ворот и пригласили их на вечеринку, решив, что ты рано или поздно вернешься. Но не надо верить мне на слово. – Улыбаясь, Голубь показывает на дверь общего зала. – Пойди и убедись сам.
– Он мне сказал вернуться, – лепечет Чеглок, чувствуя, что не то чтобы вышел из дурного сна, а скорее попал в хороший.
– Я как раз об этом. Загадочно почти до полной непонятности. Почему бы хоть иногда не говорить прямо – разве это так уж много?
Но Чеглок уже на полпути в общий зал. Когда он туда врывается, голос Дербника прорезает шум:
– Вундеркинд идет! Чег, сюда!
Зал забит плотно, воздух насыщен ароматами табака и марихуаны. Тучи дыма застилают свет от люменов и свечей. С блуждающей улыбкой Чеглок пробивается к группе столов в глубине зала, где сидят, как короли в окружении двора из всех пяти рас, Дербник и Кобчик. Все глаза не отрываются от Чеглока. Глядя на компанию и гадая, какие лица – из его пентады, он узнает шахта, что влез в спор с той стервой-тельпицей. Этот тип, не снявший свои непроницаемые темные очки даже в дымных сумерках общего зала, столь же удивлен, увидев Чеглока, но быстро приходит в себя и разражается хохотом.
Тем временем Дербник берет на гитаре торжественный аккорд.
– Господа, позвольте представить вам очень запоздалого – то есть очень давнего – нашего друга, Чеглока из Вафтинга!
Среди взрывов смеха, громкого свиста и приветственных криков поднимаются стаканы. Чеглок, вспыхнув, отвешивает клоунский поклон.
– Господа, товарищи мои паломники! – кричит он. – По правилам я, как последний появившийся из своей пентады, должен был бы поставить выпивку всем своим товарищам. Но я не намереваюсь чтить этот обычай!
Хор возмущенных выкриков и презрительного свиста. Он уклоняется от града арахиса, горящего, как миниатюрные кометы, брошенные руками салмандеров. Дербник и Кобчик смотрят на него как на безумца.
Но пока не успели бросить ничего потяжелее, он шуршит крыльями и делает успокаивающий жест руками.
– Нет, я так, Шанс меня побери, счастлив, что ставлю выпивку всем! Да, всем – следующая выпивка за мой счет!
Приветственные клики на весь зал. Чеглока окружают восторженные мьюты, хлопают по спине, суют сигареты и косяки. В руке у него оказывается кружка холодного эля, и Чеглок с наслаждением выпивает ее. Его опоздание будет если не забыто, то прощено, и он уверен, что родители его поймут и, как бы ни ворчали, ему дадут деньги на оплату счета.
Тут до него доходит, что Скопа и Сапсан сейчас чертовски волнуются: они ожидали увидеть его на площади Паломников, и уж наверняка попросили у Дербника и Кобчика объяснений его отсутствия. Он вытягивает шею, стараясь разглядеть их в плавающем дыму, и с облегчением обнаруживает, что их здесь нет. Наверное, друзья успокоили их какой-нибудь убедительной историей, прикрыв ему задницу, как делали несчетное количество раз много лет подряд. Старые добрые друзья Дербник и Кобчик! Крылатые товарищи, лучшие в мире.
Он пробивается к ним, но тут кто-то берет его под локоть и уводит в сторону.
– Наверное, ты куда богаче, чем кажешься, если делаешь такие широкие жесты, друг мой, – говорит шахт, которого он уже узнал.
– Напротив, куда беднее, – усмехается Чеглок своему отражению в темных очках мьюта. Дымная пивная атмосфера общего зала скрывает земляной запах шахта, который Чеглок всегда находил неприятным, но это одна из многих вещей, к которым ему теперь предстоит привыкать. – Однако мне бы следовало рассердиться на тебя, мастер…
– Халцедон, – отвечает шахт с неуклюжим, но вежливым поклоном. – Ну, тогда я просто попал с середины и не знал ситуации, иначе бы что-нибудь сказал.
– Эта зараза тельпица нарочно направила меня не туда, – говорит Чеглок, и гребень у него вспыхивает. – Я так и не добрался до Врат Паломничества. Если бы я…
– Плюнь, – советует Халцедон. – Жизнь коротка. Пойдем к нашей банде.
– Ты из моей пентады?
– Забавно, правда? Меня можно было перышком свалить, извини за выражение, когда я увидел, как ты входишь, и понял, кто ты!
Халцедон подводит его к паре мьютов, сидящих у конца стола Дербника. Друг, занятый разговором с симпатичной блондинкой-тельпицей, подмигивает ему украдкой и поднимает кружку в молчаливом тосте, когда Чеглок проходит мимо. Но тот едва замечает – его взор прикован к такой прекрасной русле, какой он в жизни не видел. Ну, как говорит старая пословица, из всех руслов самая прекрасная та, на которую смотришь сейчас.
– Ее зовут Моряна, – шепчет Халцедон. – Хватит слюни пускать, это невежливо!
Моряна, одетая в безрукавный светло-зеленый костюм для суши, обтягивающий тело как вторая кожа, изящна невероятно, но все руслы такие – с тонкими чертами лица, миндалевидными, кофейно-черными глазами и элегантным сильным телом, покрытым тонкой сетью чешуек, цвет и узор которых переливается в зависимости от внешнего освещения и внутренних эмоций. Из-за этой непрестанной игры цветов на коже говорят, что руслы постоянно танцуют, даже когда сидят неподвижно. Но уж когда двигаются! Видеть русла в движении – в любом движении, от самого мелкого до самого значительного жеста, от самых изящных до самых грубых действий – это значит застыть в ошеломлении восторга. Чеглок не сомневается, что, если бы руслы умели летать, их полет устыдил бы мьютов его породы. В этих движениях – выразительность и спокойствие, выходящее за пределы игры цветов, перелива обтекаемых сильных мышц под чешуей, которая на ощупь нежнее шелка и при этом тверда как сталь. Глядеть на руслов – все равно что глядеть на океан в его бесконечной смене настроений. Единственная не совсем приятная разница, что океан на тебя не смотрит.
А именно это, к неловкости и восторгу Чеглока, делает сейчас Моряна. Вспышка розового с бледно-красным по краям ползет вверх по ее шее, будто в ней, внутри, восходит солнце, и он не может подавить чувство, что именно он – причина этого восхода, свет которого льется из ее глаз и сияет только для него. Хотя, конечно, это не так. Гипнотическое, соблазнительное действие руслов хорошо известно, и Чеглок мог бы, если бы захотел, приложив небольшое усилие, разрушить чары Моряны. Но сейчас он рад погрузиться в ту безусловную приязнь и любовь, которую она будто предлагает. День был тяжелый. И он заслужил немного приветливости и любви.
Рядом с Моряной сидит мужчина-салмандер, курящий косяк толщиной с иглу. Поднявшись на ноги, он протягивает Чеглоку руку, черную как уголь.
– Феникс. Ничего себе, хорошо ты вошел.
Салмандер улыбается, не выпуская изо рта косяк, и зубы вспыхивают, будто горсть жемчужин бросили в лужицу дегтя, а глаза его, в противоположность глазам Моряны, состоят будто только из склер – два белых опала, плавающих на поверхности лужицы. Из одежды на нем только темно-красные шорты: в Салмандрии, как слыхал Чеглок, все ходят совсем раздетые, что мужчины, что женщины. И шрамы разрезов пылают тускло-оранжевым на темной обнаженной коже.
– Рад познакомиться, Феникс, – говорит Чеглок.
Пожатие салмандера твердое и приятно теплое, кожа сухая, гладкая.
– Этот мужик нам пригодится, – говорит Халцедон. Вытащив сигарету, он зажигает ее простым прикосновением к коже салмандера. – Во-первых, сэкономим на спичках.
Феникс безмятежно мигает за голубоватым облаком дыма.
– Ты уж извини этого шахта, – говорит он Чеглоку. – Столько времени проторчал под землей, что мозги малость спрессовались. Позволь тебе представить нашу руслу – Моряну.
Ее рука поднимается к Чеглоку будто выпуклость невидимой волны, и тот, принимая руку, успевает подумать: «О Шанс, если такова она на суше, какова же она в воде?» Кожа у нее холодная и сухая, совсем не шероховатая – словно змеиная. Но ахает он не от прикосновения, скорее от того, что это прикосновение вызывает в ней, или кажется, что вызывает: алое свечение расходится по ее обнаженной руке горячечным румянцем, который Чеглок не может истолковать иначе, как признание, знак увлеченности. Да, но чьей? Ее игра цветов отражает его эмоции мириадами зеркал-чешуек? Или она демонстрирует собственное желание, свой интерес – или доступность? Руслы, при всей их созерцательной сдержанности, так же безудержно отдают свое тело траху, как и драке… только говорят, что сердце свое они не отдают ни любви, ни ненависти, будто ничего из того, что происходит на суше, их не трогает, и ничто ими не может владеть, кроме моря.