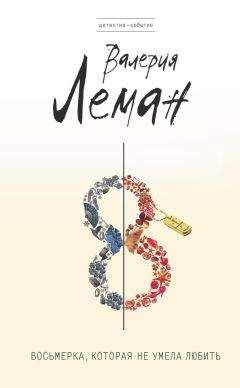Он пошел вперед, не оборачиваясь, сжимая зубы, слыша за собой легкие спотыкающиеся шаги — девушка шла следом. Что ж, иди. Иди, посмотришь на "волшебное" действие святая святых Братства Воды — ржавой трубы с отходами от фабрики кеторазамина, от которых люди, действительно, бывает, живут на несколько месяцев дольше, чем отводит им датчик.
Арин вышел в гулкую пустую залу, по бокам которой мертвыми гигантскими змеями лежали развороченные туши поездов, спрыгнул с края платформы, прошелся по стальной рельсе, раскинув руки, удерживая равновесие, услышал легкий женский вскрик, но не обернулся. Дальше открывались опутанные толстыми кабелями, сводчатые стены тоннеля, пройдя через него, миновав качнувшийся под ногами кусок вагона с остатками ярких реклам на стенах, Арин выбрался в центральную залу, поморщился, вдохнув тяжелый спертый воздух, окинул взглядом шевелящиеся на полу и у стен серые, жутковатые фигуры.
Здесь лучше не останавливаться, но…
Мальчик мой любимый! — прокурлыкал жирный сиплый голос.
Арин опустил глаза:
Привет, Нэнси.
Привет-привет, сладенький милый мальчик. Хочешь посмотреть, что сегодня показывает датчик красавицы Нэнси?
Прислоненная к стене желеобразная складчатая туша с трудом шевельнула короткими заплывшими пальцами и потянула из сальных дряблых складок шеи показавшийся крошечным датчик.
Посмотри, мальчик! Нэнси отвоевала у жизни еще парочку часов! — жидкое тесто ее лица всколыхнулось, и откуда-то изнутри послышалось рваное бульканье, должное означать смех, — а когда Нэнси выбьет из воды парочку лишних лет, она похудеет и пригласит к себе такого красивенького мальчика, правда, Арин?
Арин улыбнулся:
Правда, Нэнси… — он помолчал немного, продолжил. — Нэнси, ты еще можешь ходить?
Нет, сладенький мой, я не хожу, но воду мне приносит сюда Джо, он за мной ухаживает, подлец… Но я неприступна, сладенький мой, я берегу себя для тебя, — жирная туша вновь дрогнула и вновь раздалось горловое бульканье, от которого побежала по рыхлой коже заплывшей шеи мерзкая дрожь. — Ты же красивенький, как картинка, а с Джо слезает мясо… я не хочу такого. Я хочу такого вот маленького мальчика.
Арин оглянулся:
У вас есть обезболивающие?
Нет… А зачем? Больно только сначала, а потом в голове что-то отмирает, и уже ничего не чувствуешь. Представляешь, этот похабник пришел ко мне с водой, наклонился поставить бидон — я-то знаю, что он хотел просто заглянуть мне под юбку… наклонился, а у него с плеча оторвался кусок мяса и шлепнулся в воду. Мы так смеялись… Иди сюда, миленький, поцелуй Нэнси…
Нэнси, мне пора, — мягко ответил Арин, встречаясь взглядом с затерявшейся в толпе девушкой с ребенком на руках.
Я обязательно стану прежней, миленький! — пробулькала ему вслед Нэнси, тяжело дыша, пытаясь перевалиться набок, — я стану прежней, когда получу свои парочку лет… И мы повеселимся. Повеселимся…
Арин пошел дальше, переступая через грязные шевелящиеся тела, останавливаясь взглядом на тех, кого не замечал раньше, но вид которых теперь приковывал внимание — распухшие бородавчатые шишки вместо лиц, проглядывающие сквозь кожу уродливые костные наросты, разросшиеся наподобие кораллов, размякшие в пластилин конечности, растекшиеся в жижу нелепые головы с выпученными шарами мутных глаз.
Братство Воды. Те, кто с помощью отходов от фабрики кеторазамина, продляют себе жизнь, бывает, на несколько месяцев, самое большее — на год, те, кто готов остаться изувеченной химией мятой куклой, лишь бы удержать в себе человеческое сознание, человеческую мысль как можно дольше.
За этой залой, вверх по широкой щербатой лестнице, открывался следующий коридор, полностью погруженный во тьму. Арин сошел со ступеней, взялся рукой за рукояти стилетов, шагнул в темноту, услышав слева чье-то прерывистое, горячее дыхание, отшатнулся и наткнулся спиной на что-то большое и теплое.
Сильные руки обвили его шею, и хриплый голос произнес над самым ухом:
Тихо, детка.
Раздалось чье-то тихое хихиканье, и липкие пальцы коснулись полоски обнаженной под латексной футболкой кожи.
Арин, не раздумывая, ударил клинком вниз, рванул лезвие, одновременно оперся ногами о скорчившегося на полу визжащего от боли человека, оттолкнулся, напрягшись, почувствовал глухую боль в грудной клетке, но все-таки выскользнул из ослабевших рук того, чей затылок только что разбил о стену.
Задолбали, уроды, — выдохнул он, вкладывая клинки обратно, и кинулся бежать по коридору, зная, что на шум в этой части Метро, из боковых тоннелей может выбраться кто и что угодно. Ему показалось, что сзади он слышит не только визг раненного, но и легкие торопливые шаги, но уже не придал этому значения. Цель была близка, и думать ни о чем уже не хотелось.
Впереди забрезжил желтоватый свет, и Арин замедлил шаг, когда от стены отделилась высокая, горбатая фигура с неестественно длинными, тонкими плетями рук.
Пошел на хер, — на ходу бросил Арин, но человек вцепился плоскими, суставчатыми пальцами в его куртку и заныл высоким капризным голосом:
Узнай меня, пожалуйста, ну узнай меня… узнай… Ты же должен меня помнить… узнай, пожалуйста.
Арин остановился, посмотрел на вывернутый череп, длинный, лысый, покрытый коростой, на торчащий между зубов синий распухший язык.
Я тебе сто раз говорил, я тебя не знаю.
Узнай меня… ты меня должен помнить…
Не черта было жрать эту дрянь, может, тогда я и вспомнил бы, — огрызнулся Арин, — отвали.
Он вывернулся из немощных рук, пошел дальше, слыша позади себя тихое обреченное всхлипывание.
Арин пересек следующую залу, подошел к тяжелой, проржавевшей двери, привычно, не глядя, набрал код на замке, огляделся, потянул дверь на себя и проскользнул внутрь.
Тяжелый металлический пласт со скрипом вернулся на место, и Арин сполз вниз, потянулся рукой в карман, вытащил сигарету, поднял голову и встретил спокойный, чистый, прозрачно-легкий взгляд фиалковых, с яркой желтой каемкой глаз.
Привет, Тори…
Тори приподнялся с кровати, опершись на нее локтями, тускло блеснули металлические спайки, соединявшие края широкого, бордового шва на груди.
Ты опять пришел.
Я всегда прихожу, — сказал Арин, поднимаясь, подходя к небольшому стальному шкафчику, висящему на стене, открывая дверцы, — ты вообще не ешь, что ли? Я понимаю, не пьешь…
Это твое.
Идиот, — поморщился Арин и вытащил тяжелую бутылку, уже откупоренную, но почти полную, вернулся в центр комнаты, сел на стол, взял с него лист бумаги, на котором ярким зеленым, солнечно-желтым расплылись свежие, несмешавшиеся краски.
Ты рисовал?
Тори лег обратно, коснулся пальцами клепок на груди.
Арин поднял глаза:
Болит?
Тори опять не ответил. Хоть кровать и была неширокой, но даже на ней его узкое, белоснежное тело выглядело хрупким, и лежал он так, как лежат покойники — слишком прямо, вытянув руки вдоль тела, невидящим взглядом смотря прямо перед собой, точеное, красивое, усталое лицо не выражает никаких эмоций, слабо розовеют на нем приоткрытые губы, и лишь пронзительно фиалковые глаза, мягкие, глубокие, в лучистом обрамлении яркой радужки оживляют это лицо.
Арин не стал больше ничего спрашивать, сделал большой глоток, отставил бутылку, взял следующий рисунок, повернул лист боком, пытаясь разобраться в хитросплетении сиреневых разводов на черном, густом фоне.
На что-то похоже, — задумчиво сказал он, — только черт поймешь, на что.
Это ты не поймешь. Ты первый можешь понять.
Арин отложил лист, наклонил голову, глядя на предыдущий рисунок — яркие блики желтого на сине-зеленом фоне.
Это можно понять. Помнишь, нас учили? Синее — небо, желтое — солнце, зеленая — трава. Только к чему это все? Все равно этого больше не осталось.
Трава осталась.
Я не видел.
Ты вообще ничего не видишь, — тихо сказал Тори.
Арин отложил рисунок, обвел глазами комнату — бывшее помещение опорного пункта полиции, небольшое, но светлое засчет сохранившихся ламп дневного света.
Вроде бы, вижу, — невесело рассмеялся он, — стол вижу. Здоровый стол. Об него немало разбивали голов, это точно. Вижу остатки решеток. Вижу серый кафель…
Что еще мне надо?
А я здесь вижу солнце, небо и траву.
Арин качнул бутылку, посмотрел сквозь нее на свет:
Тори… Тебе так же больно?
Тори поднялся, поморщившись, когда скрипнули стальные соединения, стягивающую кожу на узкой груди, сложил руки, поднял черноволосую голову.
Больно? Арин, знаешь, кому больнее всего в этом мире? Не вам, тем, кто несет только свою боль, а мне, богу, потому что я чувствую боль за всех. Когда я сюда пришел, я думал, что выполню свою роль хотя бы для кучки отверженных, и…
Посмотри, во что я их превратил! — вдруг выкрикнул он, и поползла тонкая струйка крови из-под тусклой стальной клепки, — что я с ними сделал? Ты это видел? Ты видел, как я их изуродовал? Я не хотел, Арин! Я не хотел! И я не могу ничего сделать теперь! Я стал богом ада! Я просто извращенная фантазия всех мировоззрений, я липкий ком их отвратительной идеологии, я и упырь, и инкуб, и проклятье, и тварь!