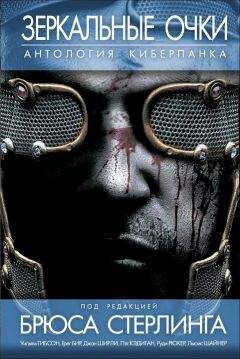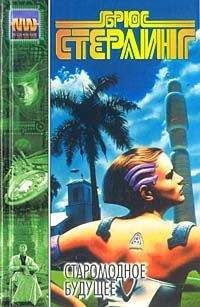Однако на этот раз я слушал юродивого и с волнением почувствовал, что его слова затрагивают во мне какие-то струны. Псало призывал епископа и солдат впустить в Собор свет, сбросив холсты, закрывающие окна. Он уже говорил об этом прежде, но правитель ответил как обычно: со светом придет хаос, ибо разум человеческий превратился в заразный очаг наваждений. Любой толчок может повергнуть во прах все то, чем обладали жители Собора.
Наблюдение за крепнущей любовью Констанции и Корвуса не доставляло мне никакой радости. Они становились все беспечнее, а их разговоры — все смелее.
— Мы должны возвестить о нашем браке, — сказал Корвус.
— Они никогда не позволят этого. Они… порежут тебя.
— Я ловок. Им никогда меня не поймать. Церкви нужны лидеры, храбрые революционеры. Если кто-нибудь не разрушит традиции, пострадают все.
— Я боюсь за тебя… и за себя. Отец выгонит меня из паствы, словно больную овцу.
— Твой отец — не пастух.
— Он — мой отец, — ответила Констанция, глаза ее расширились, а рот сжался в полоску.
Я сидел, спрятав клюв под лапами, а глаза прикрыв веками, слыша каждое их слово еще до того, как оно оказывалось произнесено. Бессмертная любовь… надежда на открытое будущее… какая нелепая ерунда! Я читал обо всем этом прежде, найдя целый ворох любовных романов в куче мусора мертвой монахини. Как только я увидел связь и осознал бесконечную банальность и бесполезность! — всего происходящего, как только сравнил их лепет с беспредельной грустью Каменного Христа, — простодушие мое сменилось цинизмом. От столь быстрого перехода у меня кружилась голова, уцелели лишь крохотные заводи благородных чувств, зато будущее стало предельно ясным. Корвуса поймают и казнят; если бы не моя помощь, его бы уже оскопили или убили. Констанция станет рыдать, примет яд; певчие сложат о ней песню (причем те же самые, что радостно станут рвать глотки, разнося весть о смерти ее любовника); возможно, я о них напишу (уже тогда я планировал вести хронику), а потом — всякое случается — последую за ними, не устояв перед грехом скуки.
С приходом ночи вещи теряли свою определенность. Было так легко уставиться в темную стену и позволить грезам обернуться реальностью. Когда-то по крайней мере так говорилось в книгах, видения не могли обрести форму за пределами сна или мимолетной фантазии. Теперь же мне часто приходилось бороться с тварями которые рождались в моей голове и вылетали из стен неожиданно обретая плоть и голод. Люди часто умирали по ночам. Их пожирали собственные кошмары.
В тот вечер я заснул с образом Каменного Христа в мыслях, а потому увидел праведников, ангелов и святых. Проснулся я внезапно — сказалась тренировка, а один уже стоял позади меня. Другие же порхали за круглым окном, шепча и строя планы, как скоро полетят на небеса. Оставшийся призрак высился темной фигурой в углу и тяжело, надсадно дышал.
— Я — Петр, — сказал он, — также известный как Симон. Я — Камень Церкви, и сказано священникам, что они — наследники миссии моей.
— Я тоже камень. Но крайней мере частично.
— Тогда да будет так. Ты — наследник мой. Иди и стань епископом. Не почитай Каменного Христа, ибо Он хорош настолько, насколько деяния Его хороши, а коли Он пребывает в праздности, то и нет в Нем спасения.
Святой захотел погладить меня по голове, но когда различил мою форму, глаза его расширились он пробормотал какую-то молитву, изгоняющую бесов, и просочился в окно, присоединившись к своим братьям.
Скорее всего, если бы подобный вопрос вынесли на решение совета, то там, в соответствии с буквой закона, решили бы, что благословление создания из снов никакой силы не имеет. Однако это не представляло никакой важности, ибо я получил самый лучший совет с тех пор, как гигант наказал мне читать и учиться.
Тем не менее, для того чтобы стать Папой или епископом, необходимо было иметь слуг, которые выполняли бы мои приказы. И самый большой из камней не сдвинется с места сам. Потому, раздувшись от собственного могущества, я решил появиться в верхнем нефе и возвестить о себе.
Понадобилось немало храбрости, чтобы выйти на свет днем, без плаща, и пройти по помосту второго уровня сквозь толпу торговцев, раскладывающих товары. Многие реагировали с типичным фанатизмом, хотели пнуть или высмеять меня. Вот только мой клюв отбивал у них всякую охоту издеваться. Я взобрался на самую высокую палатку и встал там, в мутном круге лампового света, откашливаясь, дабы люди заметили своего повелителя. Под градом гнилых гранатов и дряблых овощей я поведал толпе о том, кто я есть, и рассказал о своем видении. Украшенный бусами требухи и отбросов, я спрыгнул с помоста и бросился к входу в туннель, слишком узкий для большинства людей. За мной увязались какие-то мальчишки, и один расстался с пальцем, пытаясь порезать меня осколком цветного стекла.
Весть об откровении оказалась бесполезной, ибо в фанатизме тоже существуют уровни, и я располагался на самом нижнем из них.
После своего провала я решил найти какой-то способ посеять хаос во всем Соборе, сверху донизу. Даже в смятенной толпе мракобесов многое может изменить появление того, кто посвящен в таинства и одарен. Два дня я провел, скрываясь в стенах. В столь хрупкой структуре, как церковь, должен был существовать какой-то фундаментальный изъян, и хотя в мои планы не входило ее полное разрушение, я все же хотел совершить нечто захватывающее и неоспоримое.
Погруженный в раздумья, я висел над общиной чистой плоти, когда услышал сиплый голос епископа, легко перекрывший шум толпы, а потому открыл глаза и взглянул вниз. Солдаты в масках держали сгорбившуюся фигуру, а священник нараспев объявлял приговор над ее головой.
— Узнайте же все, кто слышит меня сейчас, что этот молодой ублюдок плоти и камня…
«Корвус, — сказал я себе. — Попался наконец». Я закрыл один глаз, но второй отказался подчиняться и продолжил наблюдать за разворачивающейся сценой.
— …нарушил все, что мы почитаем священным, и искупит свои преступления на этом месте завтра в то же время. Кронос! Отметь шествие колеса.
Выбранный Кронос, тщедушный старик с грязными седыми волосами, отросшими до самых ягодиц, взял кусок угля и начертил крест на большой диаграмме, позади которой стонало и вздыхало колесо в своем извечном кружении.
Толпа приободрилась. Я увидел, как Псало пробивается сквозь скопище народа.
— Каков его проступок? — крикнул он. — Скажи нам!
— Проникновение на нижний уровень! — объявил глава солдат в масках.
— Наказанием за это является порка и изгнание наверх! — сказал Псало. — Здесь же я вижу более серьезное преступление. Каково же оно?
Епископ холодно смерил взглядом юродивого:
— Он пытался изнасиловать мою дочь, Констанцию.
На это Псало ничего возразить не смог. Карой за подобное были кастрация и смерть. Так гласил закон всех чистых людей. Иного пути не оставалось.
Я задумался, наблюдая за тем, как Корвуса ведут в темницу. Будущее, которого я так желал, неожиданно поразило меня со всей ясностью. Я хотел возвратить ту часть своего наследия, в которой мне отказали, — примириться с самим собой, жить в обществе тех, кто меня примет, таких же как я. Гигант сказал, что со временем так и будет. Но произойдет ли это на моих глазах? Корвус, следуя зову похоти, добивался равенства этажей Собора, хотел привнести камень в плоть, чтобы никто не видел разницы.
Но дальнейшие мои планы скрывались в тумане. Да какие планы! — скорее, то были яркие чувства, радостные картинки детей, играющих в лесах и полях за пределами острова, пока работа сама прядется под взглядом наследника Божьего. Моих детей. И тут я все понял. Я хотел занять место Корвуса, когда тот спаривался с Констанцией.
То есть передо мной стояли две задачи, и если все сделать по уму, то их можно было бы совместить в одну. Следовало отвлечь епископа и солдат, а затем спасти Корвуса, такого же революционера, как и я.
Ту ночь я провел в своей комнате, горя от лихорадочных мучений, а наутро пошел к гиганту просить совета. Тот холодно посмотрел на меня и спросил:
— Мы впустую потратим время, если постараемся вбить хоть какой-то смысл им в головы, но ведь у нас и нет никаких других дел, кроме траты времени, так?
— Что же мне делать?
— Просветить их.
Я топнул ногой по полу:
— Эти люди похожи на кирпичи! Какой толк просвещать кирпичи!
Он еле заметно, но печально улыбнулся:
— Просвети их.
Я покинул гиганта, кипя от ярости. Подобраться к великому колесу времени я не мог, а потому не знал, когда состоится казнь, но, вспомнив о ворчащем от голода желудке, предположил, что случится это в начале полдня. Я излазил Собор вдоль и поперек, очень устал, а потом, когда шел по пустому проходу, подобрал с пола кусок цветного стекла и внимательно осмотрел его. Мальчишки на всех уровнях Собора таскали эти осколки с собой, девочки же использовали как украшения, и никто не обращал внимания на протесты старших, которые считали, что из-за цветных предметов разум порождает еще больше чудовищ. И где же дети брали свои игрушки?