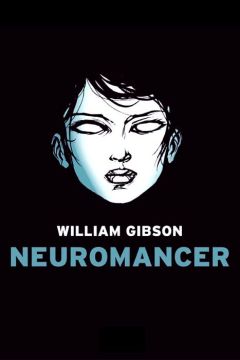Он проторчал здесь целый уж год, но о киберпространстве только мечтал, — и надежда угасала с каждой ночью. Он глотал стимулянты горстями, облазил весь Ночной Город до последней его дыры — и по-прежнему видел во сне матрицу — ее яркие логические решетки, развертывавшиеся в бесцветной пустоте… Муравейник где-то там, за Тихим океаном, а он больше ни оператор, ни кибер-ковбой. Заурядный прохиндей, пытающийся выбраться из задницы. Но в японских ночах приходили сны — колдовские, острые, как удар высоким напряжением, и тогда Кейс плакал, просыпался в темноте и корчился в гробу дешевой гостиницы, руки тянулись к несуществующей клавиатуре, впивались в лежанку, и темперлон пузырями вылезал между пальцами.
— Видел вчера твою девицу, — сказал Рац, пододвигая Кейсу вторую кружку.
— Нет у меня никакой девицы, — помотал головой Кейс.
— Мисс Линду Ли.
Кейс снова помотал головой.
— Нет девушки? Совсем? Весь в делах, дружище артист? Полностью посвятил себя коммерции? — Маленькие карие глазки бармена тонули среди морщин. — С Линдой ты мне нравился больше. Чаще смеялся. А теперь ты как-нибудь так заиграешься, что окажешься в больнице. В колбах, разобранный по кусочку.
— Не говори об этом, Рац, а то я разрыдаюсь.
Кейс допил пиво, встал и вышел, ссутулив узкие плечи, обтянутые все еще мокрой от дождя нейлоновой штормовкой цвета хаки.
Проталкиваясь в толпе, затопившей улицу Нинсеи, он чувствовал запах собственного, давно не мытого тела.
Кейсу шел двадцать пятый год. В двадцать два он уже был ковбоем, одним из лучших взломщиков Муравейника. Обучали его тоже лучшие специалисты, легендарные Маккой Поли и Бобби Куайн. В состоянии почти постоянного адреналинового возбуждения, присущего молодости и профессионализму, Кейс подключался к изготовленной по спецзаказу киберпространственной деке, которая переносила его освобожденное сознание в консенсуальную галлюцинацию матрицы. Будучи вором, он работал на других, более состоятельных воров, на заказчиков, которые и снабжали его экзотическим софтом, необходимым для проникновения сквозь сияющие стены, окружавшие информационные крепости корпораций. Софтом, чтобы открывать окна в богатые поля данных.
Кейс совершил классическую ошибку, ту самую, которую клялся никогда не совершать. Он обокрал заказчика. Утаил кое-что для себя и пытался толкнуть это кое-что через одного амстердамского барыгу. Он до сих пор не понимал, как его вычислили, хотя сейчас это было совершенно неважно. Кейс думал, что умрет, но они только улыбались. Деньги, говорили они, ну конечно же, кто же не хочет заработать. И деньги ему здорово понадобятся. Потому что — ослепительная улыбка — мы сделаем так, что ты никогда уже не сможешь работать.
И они врезали ему по нервной системе русским боевым микотоксином.
В мемфисской гостинице, привязанный к кровати, Кейс галлюцинировал тридцать часов кряду, пока выгорал, микрон за микроном, его талант.
Увечье было мельчайшее, едва ощутимое и, вместе с тем, крайне эффективное.
Для Кейса, который жил лишь ради восторга бестелесных странствий в киберпространстве, это означало полный крах. В барах, куда он ходил прежде, элитарное положение удачливого ковбоя подразумевало несколько отстраненное презрение к плоти. Ведь что такое тело? Просто кусок мяса. И вот теперь Кейс стал пленником собственного мяса.
Бывший ковбой незамедлительно превратил все свои активы в пухлую пачку новых иен — старинной бумажной валюты, которая, подобно морским ракушкам папуасов с тихоокеанских атоллов, беспрерывно циркулировала по замкнутому кругу мировых черных рынков. В Муравейнике с большим трудом, но все же удавалось вести легальный бизнес на наличные деньги, однако в Японии подобные операции были уже почти полностью противозаконными.
И все же — Кейс был уверен: в Японии ему помогут. В Тибе. Либо в обычной клинике, либо в сумеречном царстве подпольной медицины. Тиба ассоциировалась с имплантацией, сращиванием нервов, микробионикой и, как магнит, притягивала к себе техно-криминальные элементы Муравейника.
В Тибе все его новые иены исчезли за два месяца анализов и консультаций. Его последняя надежда — врачи подпольных клиник поражались изощренности увечья и медленно качали головами.
Теперь он спал в припортовых, самых дешевых гробах, под прожекторами, которые всю ночь, как необъятную сцену, освещали доки; где из-за сияния телевизионного неба не были видны не только огни Токио, но даже огромный голографический знак «Фудзи Электрик», а Токийский залив представлялся обширной черной гладью, где чайки кружатся над дрейфующими островками белого пенопласта. Дальше за портом лежал город — купола заводов, над которыми возвышались прямоугольные очертания административных зданий корпораций. Порт и город разделяла узкая безымянная полоска старых улочек. Ночной Город с улицей Нинсеи в сердце. Днем бары вдоль Нинсеи закрывались и выглядели невзрачно: неон мертв, а неподвижные голограммы терпеливо ожидали, когда же под отравленное серебристое небо придет ночь.
В чайной под названием «Жарр де Тэ», в двух кварталах от «Таца», Кейс запил первое ночное «колесо» крепким двойным эспрессо. Эту плоскую розовую восьмиугольную таблетку — сильнодействующую разновидность бразильского декса — он купил у одной из зоуновских девиц.
Стены здесь были зеркальные, каждая панель — в обрамлении из красных неоновых трубок.
Оставшись почти без денег и без надежды вылечиться, Кейс пришел в какое-то исступление и принялся добывать свежий капитал с холодной энергией, как будто принадлежащей другому человеку. В первый же месяц он пришил двух мужчин и одну женщину из-за сумм, которые еще год назад показались бы ему смехотворными. Нинсеи изнуряла его и скоро стала казаться внешней проекцией его внутреннего стремления к смерти, таинственного яда, который постепенно переполнял тело.
Ночной Город похож на сумасшедший эксперимент в области социального дарвинизма, все время подстегиваемый клавишей «ввод», которую давит зевающий от скуки исследователь. Перестань шустрить — и тут же бесследно утонешь, но чуть переусердствуй — и нарушится хрупкое поверхностное натяжение черного рынка; и так, и сяк — тебя нет, ничего не осталось, кроме смутных воспоминаний о тебе у старожилов вроде Раца, ну да еще сердце, легкие или почки в больничных колбах, которые еще могут послужить какому-нибудь засранцу с пачкой новых иен.
Бизнес требовал постоянной интуиции, и смерть воспринималась как естественное наказание за лень, беззаботность, отсутствие такта, за неумение приспособиться к запутанному этикету черного рынка.
Однако, сидя за столиком «Жарр де Тэ» и чувствуя, как под действием дексамина потеют ладони, вздрагивают волоски на руках и груди, Кейс вдруг понял, что в какой-то момент начал играть сам с собой в очень древнюю игру, не имеющую названия, — в последний пасьянс. Он больше не носил оружия и не предпринимал никаких предосторожностей. Он заключал поспешные необдуманные сделки прямо на улице и приобрел репутацию человека, способного достать все что угодно. Какая-то часть его сознания понимала, что ослепительный блеск самоуничтожения не может не броситься в глаза заказчикам, которых, кстати, становилось все меньше и меньше. Однако та же самая часть буквально млела в предвкушении близкого конца. И эту же самую часть, в тепле и уюте ожидавшую смерти, особенно раздражали любые мысли о Линде Ли.
Он познакомился с ней одним дождливым вечером, в аркаде[1].
Под яркими призраками, сияющими в голубом сигаретном тумане, среди голограмм «Замка колдуна», «Танковой войны в Европе», «Полета над Нью-Йорком»… Кейс вспомнил, как ее лицо омывалось беспокойным лазерным светом, и черты его превращались в код: скулы вспыхивали алым, когда пылал замок колдуна, лоб высвечивался лазурью, когда в Мюнхен входили танки, и рот озарялся жарким золотом, когда скользящий курсор высекал искры в каньоне небоскребов. В тот вечер он чувствовал себя богачом: кетаминовый брикет Уэйджа отправлен в Йокогаму, капуста уже в кармане. Кейс спрятался от теплого дождя, который хлестал по тротуарам Нинсеи, и как-то сразу из множества посетителей выделил девушку, которая самозабвенно играла. Несколькими часами позже, в припортовом гробу, он опять рассматривал то же самое восторженное выражение ее сонного лица и губы, похожие на птичку, какую рисуют дети.
Тогда же, гордый от заключенной сделки, Кейс направился к девушке и вдруг поймал на себе ее взгляд. Серые глаза, густо обведенные черным карандашом. Взгляд животного, парализованного светом приближающегося автомобиля.
Их совместная ночь перешла в утро, в билеты на паром и его первую поездку на ту сторону залива. Дождь шел не переставая, хлестал по Хараюку, скатывался каплями по ее пластиковой курточке, обдавал водяной пылью токийских подростков в белых кроссовках и блестящих накидках, шумными группками бродивших мимо знаменитых бутиков, а к полуночи Кейс с Линдой стояли в шумном зале для игры в патинко и она держалась за его руку, словно ребенок.