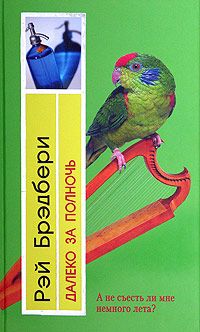— Ты не тот… каким кажешься?
— Не тот, — ответил Призрак. — Извини.
«Я сейчас сойду с ума», — подумал священник.
— Не надо, — сказал Призрак, — иначе я тоже сойду с ума.
— Я не могу отпустить тебя — о Господи, — раз уж ты явился после всех этих лет, всех моих мечтаний, — разве не видишь, это для меня слишком. Две тысячи лет все человечество ждало твоего возвращения! И я, я — тот, кто встретил тебя, кто видит тебя…
— Ты встретился лишь со своим собственным мечтаньем. Ты видишь только то, что тебе потребно видеть. Без всего этого… — фигура прикоснулась к своим одеждам на груди, — я выгляжу совсем иначе.
— Что же мне делать?! — воззвал священник, глядя теперь уже то на небеса, то на призрака, который вздрогнул от его крика. — Что?
— Отведи взгляд. В это мгновение я выбегу за дверь и скроюсь.
— Вот так… просто?
— Прошу тебя, — сказал Человек.
Священник, дрожа, сделал несколько вдохов.
— О, если б это мгновение могло длиться хотя бы час.
— Ты что, хочешь убить меня?
— Нет, что ты!
— Если ты насильно удержишь меня в этой форме еще немного, моя смерть будет на твоей совести.
Священник прикусил кулак, и дрожь сожаления пронизала его с ног до головы.
— Так значит, ты… ты марсианин?
— Он самый.
— И я сделал это с тобой моими собственными мыслями?
— Невольно. Когда ты спустился по лестнице вниз, твоя давняя мечта охватила меня и преобразовала. Мои ладони до сих пор кровоточат от ран, которые ты достал из тайных закоулков своего разума.
Священник в изумлении покачал головой.
— Еще секунду… подожди.
Он напряженно и жадно вгляделся в темноту, из которой проступал светлый лик Духа. Лик этот был прекрасен. А эти руки — какая неописуемая нежность была в этих руках.
Священник кивнул, его обуяла такая грусть, словно меньше часа назад он прошел через настоящую Голгофу. И час истек. И гаснущие угли рассыпались по песку у Галилейского моря.
— А если… если я отпущу тебя…
— Отпусти, отпусти меня!
— Если я отпущу тебя, ты обещаешь…
— Что?
— Ты обещаешь мне возвращаться?
— Возвращаться? — вскричала фигура в темноте.
— Один раз в год, это все, что я прошу, приходить один раз в год сюда, к этой самой купели, в этот же самый ночной час…
— Приходить?..
— Обещай мне! О, я должен снова пережить этот момент. Ты не представляешь, как для меня это важно! Обещай мне, или я тебя не отпущу!
— Я…
— Обещай мне! Поклянись!
— Я обещаю, — сказал бледный призрак во мраке. — Я клянусь.
— Спасибо, о спасибо.
— В какой день года отныне я должен являться?
Теперь уже слезы текли по щекам молодого священника. Он с трудом вспомнил, что хотел сказать, а произнося эти слова, он едва мог их расслышать:
— На Пасху, о Господи, да, на Пасху через год!
— Пожалуйста, не плачь, — сказала фигура. — Я приду. На Пасху, говоришь? Мне известен ваш календарь. Да. А теперь… — Израненная бледная рука простерлась в тихой мольбе. — Можно мне уйти?
Священник до хруста стиснул зубы, сдерживая рвущийся из груди крик горестного отчаяния.
— Благослови меня и уходи.
— Вот так? — спросил голос.
Рука, простершаяся из темноты, прикоснулась к нему с невыразимой нежностью.
— Скорее! — вскричал священник, зажмуривая глаза и крепко прижимая к груди кулаки, чтобы не дать себе схватить эту руку. — Уходи, пока я не пленил тебя навеки. Беги, беги!
Бледная рука в последний раз коснулась его чела. Послышался тихий топот убегающих босых ног.
Дверь распахнулась в звездное небо; и захлопнулась вновь.
И еще долго гулкое эхо носилось по церкви, отдаваясь в каждом алтаре, в каждом алькове и улетая ввысь незрячим метанием одинокой птицы, ищущей и обретающей освобождение под высокими сводами. Наконец церковь перестала содрогаться, и священник возложил на себя руки, словно говоря самому себе, как дальше себя вести, как дышать; хранить спокойствие, молчание, мужество…
В конце концов он спотыкаясь подошел к двери и протянул к ней руку, желая распахнуть ее во всю ширь, выглянуть на дорогу, которая в этот час, наверное, была пустынна, и, возможно, увидеть исчезающую вдали белую фигуру. Он не стал открывать дверь.
Он пошел вокруг церкви, радуясь предстоящей работе, завершая ритуал запирания дверей. Немалый путь, чтобы обойти все двери. Немалый путь до следующей Пасхи.
Священник остановился у купели и увидел в ней лишь чистую воду, без всяких следов крови. Он погрузил в нее руку и смочил ею лоб, виски, щеки и веки.
Затем медленно вошел в придел и пал ниц перед алтарем, дав волю горьким и безутешным рыданиям. Он слышал, как его печаль то взмывает в агонии, то вновь возвращается из-под сводов башни, где висел молчаливый колокол.
Ему было о чем плакать.
О себе.
О человеке, который только что был здесь.
О том, как долго еще ждать, пока вновь откатят камень и найдут могилу пустой.
Пока Симон, названный Петром, снова увидит над марсианским берегом дух и самого себя, Симона-Петра.
Но более всего он плакал оттого, что — увы, увы, — оттого, что… никогда в жизни он не сможет поведать об этой ночи никому…
Дж. Б. Шоу — Евангелие от Марка, глава V
G.B.S. — Mark V 1976 год [27]
Переводчик: О.Акимова
— Чарли! Куда ты?
Окликнули его проходящие мимо члены космического экипажа.
Чарльз Уиллис не ответил.
По вакуумной трубе он направился вниз, сквозь приветливое гудение в недрах корабля. Он падал вниз, размышляя: «Вот он, великий час».
— Чак! Куда ты направляешься? — окликнул кто-то.
На встречу с тем, кто мертв и в то же время жив, холоден, но тепло приветлив, вечно недосягаем, но каким-то образом всегда оказывается рядом.
— Идиот! Дурак!
Эхом отозвалось вслед. Он улыбнулся.
Затем он увидел Клайва, своего лучшего друга, который плыл ему навстречу. Он отвел глаза, но Клайв пропел ему по радионаушнику, напоминающему морскую раковину:
— Нам надо поговорить!
— Позже! — крикнул Уиллис.
— Я знаю, куда ты идешь. Дуралей!
И Клайв пронесся мимо него вверх, а Уиллис, с дрожью в руках, мягко продолжил свое падение вниз
Ботинки его коснулись поверхности. В тот же миг он вновь пережил ощущение наслаждения.
Он двинулся мимо скрытых механизмов ракеты. «Боже, — думал он, — безумцы. Мы в глубоком космосе, сто дней, как оставили Землю, и в этот самый момент большинство членов экипажа лихорадочно накручивают диски своих афродизиакальных аниматронов, которые ласкают и убаюкивают их в тесных раковинах грейферных кроватей. А я, что я делаю? — думал он. — А вот что».
Уиллис подошел и заглянул в тесную складскую каморку.
Там в вечной полутьме сидел старик.
— Сэр, — произнес Уиллис и смолк в ожидании.
— Шоу, — прошептал тот, — Мистер Джордж Бернард Шоу.
Глаза старика широко распахнулись, словно его только что осенила Мысль.
Обхватив свои костлявые коленки, он издал резкий хохочущий вскрик.
— Ей-богу, принимаю ее целиком и полностью!
— Принимаете что, мистер Шоу?
Мистер Шоу бросил на Чарльза Уиллиса искрометный взгляд своих голубых глаз.
— Вселенную! Она думает, следовательно, я существую! Поэтому не лучше ли мне принять ее? Садись.
Уиллис сел в затененной части комнаты, сжимая руками колени, испытывая внутри уютное блаженство оттого, что он снова находится здесь.
— Мой юный Уиллис, должен ли я прочесть твои мысли и поведать тебе о том, к каким выводам ты пришел со времени нашего последнего разговора?
— Вы умеете читать мысли, мистер Шоу?
— Слава Господу, нет. Было бы, наверное, ужасно если б я был не только иероглифической табличкой, роботом Джорджа Бернарда Шоу, но умел еще и сканировать ваши мозговые шишки и озвучивать ваши сны? Это было бы невыносимо.