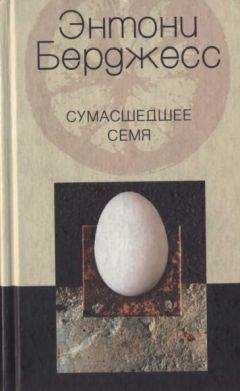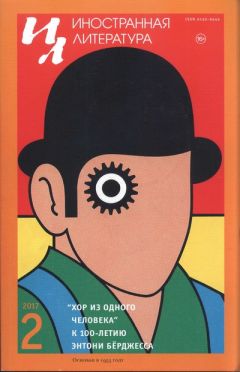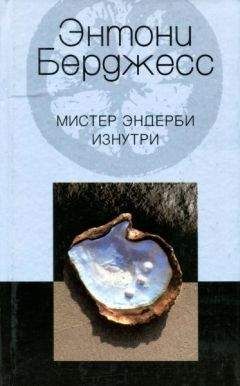— Ох, ты просто чудовище, в самом деле, Артур.
Старательно дышавшая туша рядом с Тристрамом сказала:
— Они несерьезно относятся к этому, вот в чем проблема со многими, кто тут собрался. Пускай все вразнос идет, вот что они делают.
Глухой голос со слабыми западными гласными любезно спросил:
— Не хочет ли кто-нибудь сандвич с жареным яйцом?
— Слушайте, — чуть не плакал Тристрам в вонючей темноте. — Я просто шел разобраться с женой, вот и все. Ко мне это никакого отношения не имеет. Это несправедливо.
Серьезный голос сбоку от него сказал:
— Конечно, несправедливо. Они всегда несправедливы к рабочему человеку.
Другой с враждебным Тристраму акцентом буркнул:
— Заткнись, понял? Мы таких типов знаем. Я за тобой присматриваю, — что явно было невозможно. Тем временем они, насколько можно было сказать, двигались конвоем под рев; возникало ощущение, будто улицы полны счастливых, неарестованных людей. Тристраму хотелось расплакаться.
— Я так понял, — сказал новый голос, — что вы не желаете присоединяться к нашей борьбе, верно, друг? Интеллектуалы никогда не вставали на сторону рабочих. Иногда позволяли себе, но лишь в целях предательства.
— Это меня предали, — вскричал Тристрам.
— Дайте там ему в задницу, — сказал кто-то.
— Предательство чиновников, — раздался скучающий голос. Заиграла гармошка.
Наконец грузовик остановился, заскрежетали в последний раз тормоза, открылась и захлопнулась дверца водителя. Звук поворачиваемых в пазах болтов, бряцание цепи, и, как ветер, ворвался огромный дневной свет.
— Вылезай, — сказал вооруженный карабином капрал, микронезиец, отмеченный оспинами.
— Послушайте, — сказал, вылезая, Тристрам. — Я хочу высказать самый категорический, какой только можно, протест по этому поводу. Я требую, чтобы мне разрешили позвонить по телефону Комиссару Фоксу, моему брату. Это чудовищная ошибка.
— Заходи, — сказал констебль, и Тристрама вместе с остальными втолкнули в дверь. Сорок с лишним этажей вздымались к небу над их головами.
— Вас тут целая куча, — сказал сержант. — По тридцать пять на камеру. Полно для вас места, вы, до ужаса антиобщественные субъекты, вот вы кто такие.
— Я протестую, — запротестовал Тристрам. — Не пойду, — продолжал он, входя.
— Ох, заткни ты его, — сказал какой-то рабочий.
— С удовольствием, — сказал сержант.
Звякнули три болта, для надежности заскрежетал ключ в ржавой скважине.
Беатрис-Джоанна собрала всего одну сумку; особенно нечего было укладывать. Нынешний век не век собственности. Она попрощалась со спальней, глаза ее увлажнились при последнем взгляде на крошечную кроватку в стене, принадлежавшую Роджеру. Потом пересчитала в гостиной всю свою наличность: пять банкнотов по гинее, тридцать крон, еще септы, флорины, таннеры. Хватит. Времени извещать сестру не было, но Мевис часто говорила и часто писала: «Что ж, в любое время приезжай. Только не привози с собой этого своего мужа. Знаешь, Шонни его не выносит». Беатрис-Джоанна улыбнулась при мысли о Шонни, потом заплакала, потом взяла себя в руки. А еще выключила главный рубильник, гул холодильника стих. Теперь квартира была мертва. Виновата? С чего бы ей себя чувствовать виноватой? Тристрам велел выметаться, она и выметается. Снова попробовала угадать, кто ему рассказал, многим ли все известно. Может быть, больше она никогда не увидит Тристрама. Крошечная жизнь внутри нее сказала: «Действуй, не рассуждай. Пошевеливайся. В счет иду только я». Беатрис-Джоанна думала, что в Северной Провинции окажется в безопасности; оно будет в безопасности. Она не могла думать ни об одном другом обязательстве, кроме обязательства перед этим единственным дюймом протеста весом в тридцать с чем-то гран, о клетках, которые в знак протеста делятся снова и снова, о вспышках протеста — эпи, мезо, гипо. Крошечная жизнь протестует против монолита смерти. Прочь отсюда.
Начинался дождь, поэтому она накинула дождевик, тонкую, как туман, кожицу. На тротуаре была засохшая кровь, иголки дождя подкалывали ее, чтоб она потекла, пускай даже в канализацию. Дождь шел с моря, отстаивал жизнь. Она резкими шагами вышла на Фрауд-сквер. В красном светящемся входе в подземку в красном свете мельтешили люди, как черти в мифическом старом аду, молча, шумно, с хохотом уносясь в одиночку и парами вниз по рокочущему эскалатору. Беатрис-Джоанна взяла в автомате билет, нырнула в дезинфицированные белые катакомбы, где ветер налетал из туннелей, села в поезд до Центрального Лондона. Быстрый вид транспорта, доставит скорее чем за полчаса. Рядом старая женщина шамкала, шамкала, разговаривала сама с собой с закрытыми глазами, через определенные интервалы говорила вслух:
— Дорис была хорошая девочка, хорошая для своей матери, а другая…
Престон, Патчем, Пендин. Пассажиры выходили, пассажиры входили. Пайкомб. Старушка вышла, бормоча:
— Дорис…
— Привыкли пироги есть[22], — сказала бледная толстая мать в голубой пудре. Ее ребенок плакал. — Голодный, вот в чем дело, — сказала она.
Перегоны теперь становились длиннее. Олбурн. Хикстед. Боулни. Уорнинглайд. В Уорнинглайде вошел мужчина с ученым видом, с жилистой шеей, сел рядом с Беатрис-Джоанной и, пыхтя, как черепаха, начал читать. «Счн Влм Шкспр». Развернул батончик синтешока, стал жевать, отдуваясь. Ребенок снова заплакал. Хэндкросс. Пиз-Поттедж[23].
— И гороховый суп ели, — сказала мать.
Кроули. Хорли, Солфордс. Ничего съедобного.
Редхилл. Ученый в Редхилле вышел, вошли трое из Популяционной Полиции. Это были молодые люди, субалтерны, с хорошей фигурой, поблескивавшей металлом, в черной форме, запачканной волосками, перхотью, крошками от еды. Дерзко опытным взглядом окинули пассажирок, как бы высверливая нелегальную беременность. Беатрис-Джоанна вспыхнула. Хоть бы поездка поскорей закончилась. Мерстэм, Кэтрем, Коулсдон. Скоро. Она прижала руки к животу, как будто обитавшая в нем клетка уже прыгала с заметной глазу радостью. Перли, Кройдон, Торнтон-Хит, Норвуд. Офицеры полиции вышли. Теперь поезд с урчанием вгрызался в глубокое черное сердце древнего города. Далвич, Кэмберуэлл, Центральный Лондон. И вскоре Беатрис-Джоанна пересела на местную линию до конечной станции Северо-Запад.
Ее потрясло количество серой и черной полиции, кишевшей на шумной станции. Она встала в очередь в билетный зал. Офицеры обеих полиций сидели за длинными столами, загораживавшими проход к кассам. Щеголеватые, наглые, лаконичные.
— Пожалуйста, удостоверение личности. — Она протянула карточку. — Место назначения?
— Государственная Ферма СЗ313 за Престоном.
— Цель поездки?
Она легко попала в ритм:
— Простой визит.
— К друзьям?
— К сестре.
— Ясно. К сестре. — Это грязное слово. — Продолжительность визита?
— Не могу сказать. Слушайте, зачем вам это нужно?
— Продолжительность визита?
— Ох, возможно, шесть месяцев. Может, дольше. — Много ли можно им говорить? — Видите ли, я оставила мужа.
— Гм. Гм. Будьте добры, проверьте пассажирку. — Клерк-констебль переписал сведения из ее удостоверения личности в официальную темно-желтую анкету. Тем временем у другой молодой женщины возникли проблемы.
— Говорю вам, я не беременна, — повторяла она.
Золотоволосая тонкогубая женщина из полиции стала подталкивать ее к дверям с табличкой: «МЕДИЦИНСКИЙ ИНСПЕКТОР».
— Скоро увидим, — сказала она. — Скоро мы все узнаем, не правда ли, милая?
— Но я не беременна, — кричала молодая женщина. — Нет, я вам говорю.
— Вот, — сказал дознаватель, возвращая Беатрис-Джоанне удостоверение с печатью. У него было милое лицо школьного старосты, мрачность на нем казалась пугающей маской. — Слишком много нелегально беременных пытаются бежать в провинции. Вы ведь не совершаете ничего подобного, правда? В карточке сказано, у вас один ребенок. Сын. Где он в данный момент?
— Умер.
— Ясно. Ясно. Ну, тогда, значит, все. Проходите.
И Беатрис-Джоанна пошла покупать билет на север в один конец.
Полиция у барьеров, полицейские патрули на платформе. Переполненный поезд (на ядерном топливе). Беатрис-Джоанна, уже измученная, села между худым мужчиной, окостеневшим до такой степени, что кожа казалась какой-то броней, и очень маленькой женщиной с болтавшимися, как у очень большой куклы, ногами. Напротив сидел мужчина в клетчатом костюме с грубым лицом комедианта, безнадежно сосавший искусственный глазной зуб. Маленькая девочка с открытым ртом, точно у нее росли аденоиды, в строгом медленном ритме оглядела Беатрис-Джоанну с головы до ног и с ног до головы. Очень толстая молодая женщина сияла предупредительным фонарем, а ноги ее до того походили на дерево, что как будто росли из пола купе. Беатрис-Джоанна закрыла глаза. И почти сразу навалился сон: серое поле под грозовым небом; стонут, качаются растения вроде кактусов; люди, похожие на скелеты, падают, высунув черные языки; потом сама она оказалась участницей акта совокупления — с некоей мощной мужской формой, которая не появлялась на сцене. Раздался громкий смех, и она, отбрыкиваясь, очнулась. Поезд еще стоял на станции; коллеги-пассажиры смотрели на нее лишь с легким любопытством (кроме девочки с аденоидами). Потом — словно тот самый сои был обязательным ритуалом перед отъездом — они медленно тронулись, оставляя позади серую и черную полицию.