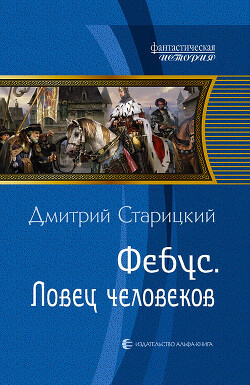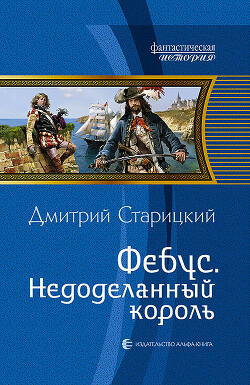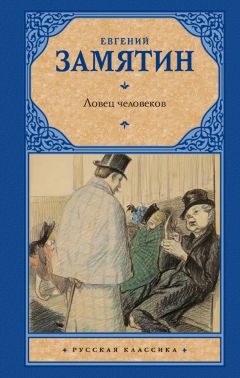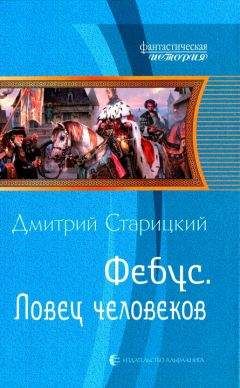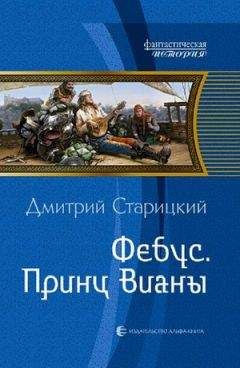Грицко широко перекрестился и молвил:
– Верно дед мой гутарил: Бог долго терпит да больно бьет!
– Ты так мне и не сказал, как Мамаи стали Глинскими.
– Ну так слухай, княже. Бий Мансур Киятович Мамай, сделавшись совсем независимым государем, сам стал дружить с Литвой против Орды и детям то же заповедал. Через двадцать лет по смерти хана Кията, когда Тохтамыша выгнал с Орды хан Култуг, Тохтамыш к Витовту в Литву сбежал, получив от великого князя на кормление Киев. Тогда наша тьма с литвой, ляхами, татарами Тохтамыша с киянами, да божиими лыцарями из Пруссии схлестнулись на речке Ворксле с Ордой. Командовал всеми изгой Боброк Волынец, тот, что войско хана Мамая на Непрядве разбил. В этом же сражении Боброка убили, в самом начале схватки, а князь великий Витовт не справился, и побил его хан Култуг. Крепко побил. Едигей к нему с подмогой подоспел. Первыми побежали с поля боя божии лыцари, за ними и все полсотни литовских и русских князей с дружинами утекли, кого не убили. С раненым великим князем только наши казаки и остались. И вывели того в безопасное место. Тогда бию нашему Александру Мамаю, сыну Мансура Кията, Витовт в благодарность за спасение дал в удел местечко Глину и часть Черниговщины. И признал тогда бий Олекса Витовта «старшим братом» своим «в отца место». С тех пор и стал писаться он в грамотах как князь Глинский. Ну а мы, все остальные Мамаи, так Мамаями и остались. Так что недолго наше государство незалежности радовалось. Да и не выжить нам одним было после такого разгрома. Култуг до Киева все разорил.
– Шибко по дому скучаешь?
– Не то слово, княже; тоскую.
Тут его глаза слегка замутнели.
– А все ж красива она была, як зорька ясная…
– Кто? – не понял я такого резкого перехода от геополитики к красоте.
– Ганна. Дочка осадчего войта. Меня с нее братья ейные сняли на сеновале, в самый сладкий наш миг. Побить меня хотели – женись, мол, коли девку спортил. Четверо их у нее, братьев-то… Отбился… Да убегая, мотней за плетень зацепился и об землю ушибся. С меня дух вон, воны меня тут и словили. Старикам нашим на майдане меня представили с той же песней: или пусть женится, или к старосте на суд. Дюже подняться хотели: были крепаками, а станут родней подханку. Вот сестру свою сами мне и подсунули. А мне тогда было… Ну, как тебе сейчас – пятнадцать. Как нюхнул бабью промежность, так и мозги вон… Один звон в голове. А тут еще девка сама ластится…
Смеется Гриць заразительно, покачивая бритой головой.
– Ты смотри, Гриня, на моих землях не озоруй, – предупредил я его. – В каждом городе бордель есть с непотребными девками. И стоит это удовольствие недорого. Так что к честным женщинам не лезь. Народ тут горячий, ревнивый, под руку и убить могут. И будут в своем праве. Даже к женитьбе принуждать не будут. Ты в этом вопросе Микала держись – он ходок по бабам уже опытный. Знает, что можно, а чего нельзя.
– Дякую за мудрость вашу, твое высочество.
– Ладно тебе дякать. Одна, Гриць, дяка, что за рыбу, что за рака. Лучше расскажи, что дальше было с той Ганной. Интересно же…
– Та ни что… С поруба, куда меня до суда засадили, я втик. Седмицу в плавнях рыбалил, потом с дядьями и брательниками на Дон ушли. С тамошними черкасами в набег поплыли до Анатолии. Далее ты все знаешь.
– Ну так что решил? До весны мне служишь?
– А в чем службица-то? Мне не всякая служба в почет, не во гнев твоему высочеству будет сказано.
– А на кого пальцем покажу – тому голову с плеч. Вот и вся служба.
– А бабы будут?
– Будут тебе бабы, – усмехнулся я, – хоть без шахны, да работящие.
– Откуда, княже, так на руськой мове балакать умеешь? Любопытно мне.
– А я много языков знаю. Таков царский удел, – ушел я в несознанку. – Служить будешь?
– А корабелю дашь? Из милости.
– Все дам. И коня милостивого, и саблю, и шапку каракулевую, – смеюсь.
– Тогда я твой, – склонил голову хлопец. – Только, чур, княже, до весны.
И мы оба засмеялись задорно, хорошо понимая друг друга.
Второй день плавания я решил посвятить физическим упражнениям, проверить все же возможности моего нового тела, да неспешному подведению итогов и построению планов на будущее, но обломился, так как нас стали преследовать две галеры под белыми флагами с золотыми лилиями. На каждой стояло не меньше полусотни арбалетчиков. И все мои благие пожелания накрылись медным тазом.
Бретонские парусные нефы от безветрия приотстали и маячили далеко за кормой.
Франкские галеры очень долго с нами сближались, практически до обеда, меняя галсы по ветру, и мы почти потеряли за кормой более тихоходные и менее маневренные союзнические парусники. В любом случае рассчитывать на их помощь было нечего. Если ветер покрепчает – помогут. А нет так нет. Кисмет, как любит говорить капудан.
Я как-то читал, что морской бой парусников мог длиться всего минуты, а основное время – часто многие часы – съедали именно маневрирование, отнятие ветра у противника, проведение правильного маневра для абордажа или подводки корабля противника под огонь своей бортовой артиллерии.
А вот и сам капудан спешит ко мне, шлепая задниками богато расшитых туфель по палубе.
– Мой солнцеподобный эмир, какие будут приказания? – склонился он передо мной, являя глазам розовую косынку.
Однако под халатом негоцианта блестела позолотой дорогая кольчуга панцирного плетения, и весь его арсенал на поясе был готов к применению.
– Мы сможем от них уйти? – спросил я в лоб.
– Попробовать можно, но на парусах они будут быстрее нас. А весельная команда у меня сейчас вашими стараниями ослаблена, – посетовал он.
– Зато усилена абордажная команда, – осадил я его попытку снова посадить узников совести на весла. – Кроме копта, там все неплохие бойцы. Лишними не будут.
Наконец галерам франков, уже после того как мы успели со вкусом и не торопясь пообедать, удалось взять нас в клещи, пока еще на расстоянии больше двух кабельтовых. Все же они были помельче, поуже в корпусе и повертче большой сарацинской галеры. Наш корабль только на прямой дистанции выигрывал у них в скорости, дважды вырываясь из этих «клещей» короткими рывками. Последний раз, выйдя прямо из-под шпирота франкской галеры, на который уже готовы были спуститься их абордажники. Пару франков удалось подстрелить сарацинским матросам из тугих турецких луков. И одного ссадить с мачты, когда тот лез в «воронье гнездо» с арбалетом. Стрела попала ему в левую руку, но вот громкое падение с реи на палубу вряд ли добавило ему здоровья.
До этого мы дважды уже сходились с франками на перестрел, но легкие стрелы валлийцев относил посвежевший ветер, и я приказал бросить это бесполезное занятие и не тратить зря стрелы. Выждать, пока ближе не подойдут. Арбалетный болт доставал палубы противника, но его также, хоть и намного меньше, сбивал с прицела ветер.
Впрочем, и врагам нашим ветер также не помогал стрелять в нас.
Пока мы с франками вот так играли в морские кошки-мышки, небо потемнело, и ветер резко усилился. Паруса все убрали и гоняли друг друга исключительно на веслах.
А потом неожиданно пришел шторм.
Да что я говорю – не шторм, а ШТОРМ!!!
И нас разнесло с противником высокими водяными валами далеко друг от друга.
Ощущение того, что низ моего живота стремится сорваться в колени, появилось у меня и больше не пропадало. Точно так же, как и верх желудка поселился где-то в районе зоба, стараясь проскочить наружу. Но пока было еще терпимо. А потом нас стало немилосердно мотать на больших волнах, которые шторм перекатывал через палубу, и все внутри меня поменялось местами.
Это был первый настоящий шторм, который я видел за обе своих жизни, и поначалу зрелище разбушевавшейся стихии завораживало и притягивало к себе мой взгляд этой величественной нечеловеческой жутью, но постепенно морская болезнь взяла свое.
Бортовая качка была еще терпимой, хотя и на пределе возможностей. А вот когда пошла килевая, то я неожиданно обнаружил себя в каюте, валяющимся пластом на оттоманке с вывернутым наизнанку желудком и привкусом медной пуговицы во рту. Периодически сокращался буквой «зю» и меня рвало горькой желчью – больше нечем было. Да и желчи во мне почти не осталось. Казалось, еще чуть-чуть – и выверну в медный таз последние свои потроха.