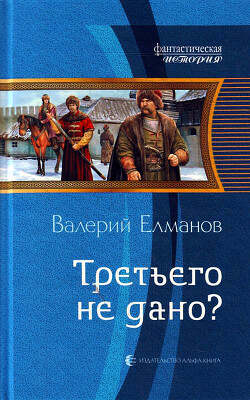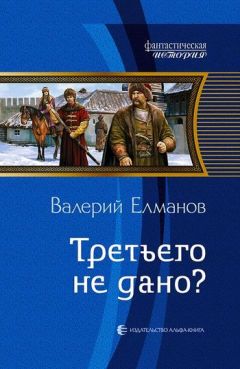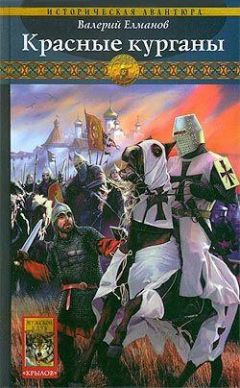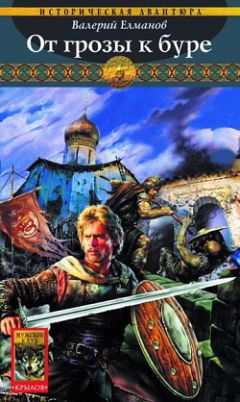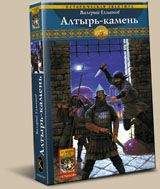Да, виноват. Но ведь любовь проклятущая.
Когда-то и у меня была совсем такая же. Только я прошел через нее куда как раньше, да и закончилась она гораздо хуже.
Впрочем, об этом я как-то уже рассказывал, так что повторяться не стану.
С тех самых пор словно отрезало. Нет, с женским полом я общался довольно охотно, но только телесно, а вот духовно как-то не получалось — глаза Оксанки так и не выходили из головы.
Какая тут, к черту, любовь при таких воспоминаниях.
Так что мальчишку Дугласа я хорошо понимал.
Даже слишком хорошо.
И вообще, к шутам всю лирику, ибо там у меня произошло непоправимое, а тут должны найтись шансы на спасение парня. Пока человек жив, они всегда есть, надо только их отыскать…
Вот только как воздействовать на Годунова?
Расклад выходил неутешительный. Выклянчить жизнь парню в обмен на свое расследование не получится — узнал многое, возможно, даже очень многое, но все не то.
Да и проку в том, что я с точностью до девяноста процентов вычислил происхождение Лжедмитрия? Девяносто — не сто.
Нет, я конечно же все равно доберусь до истины и перелопачу всех холопов с московских подворий братьев Романовых — спортивное любопытство взыграло не на шутку. Но пока что моих данных, чтобы клянчить награду в виде жизни Квентина, явно маловато.
Получалось, что просьбы бесполезны.
Следовательно, надо сплести какую-нибудь хитромудрую комбинацию, непременным участником которой должен стать несчастный Дуглас. Вот только какую?
А думать надо быстрее, со временем у меня и без того напряг.
Радовало лишь то, что вроде как влюбленного шотландца не пытают, и даже если я сегодня ничего не надумаю, то у меня есть в запасе второй день, третий и так далее. Хотя тоже особо медлить нельзя.
Во-первых, подземные казематы для его чахлого здоровья вредны сами по себе, а во-вторых, когда там, согласно царским словам, убывают английские послы? Вроде бы за седмицу до Великого поста. А он у нас сколько? Сорок восемь дней до Пасхи. А когда Пасха? Тьфу ты, не силен я в поповских праздниках.
Пришлось идти вызнавать у притихшей, ибо никогда не видели меня в таком состоянии, дворни, а потом вновь садиться за стол и вычислять далее.
Получалось, если Пасха в этом году в последний день марта, то Великий пост начинается одиннадцатого февраля. Значит, «за неделю» означает четвертое.
А сегодня вроде бы восемнадцатое января.
Да уж, припозднился я с Угличем.
Но все равно время у меня есть, хотя весьма желательно уложиться чуть раньше, как минимум на недельку, чтобы, если вдруг ни одна из моих задумок не удастся, не только разработать, но и осуществить план побега.
Ближе к полуночи в голове что-то зашевелилось. Так-так. Получалось, что в лазутчики придется переквалифицироваться мне. И никуда не денешься.
«Ну прямо в точности по дядькиным стопам иду, — подумалось вдруг. — Только у меня все время уровень выше. Он учителем у сына Висковатого, а я у царевича, да и в шпиёны тоже не куда-нибудь подамся, а к еще одному будущему царю. Не иначе как акселерация виновата. — И тут же осадил себя: — Гляди, не самообольщайся. Парить в небесах здорово, зато лететь с них вниз…»
Впрочем, последнее было излишне. От своего нынешнего высокого положения я ни разу не пришел в восторг. Лишь в самом начале, да и то здесь скорее имела место не гордость, а попросту захватило дух — уж очень быстрым оказался набор высоты.
Со своим замыслом я двинулся на следующий день в Кремль, рассчитывая после занятий с царевичем выйти на Бориса Федоровича, посвятить его в свою идею и всерьез заинтересовать ею.
О несчастном Дугласе при этом вообще ни слова, будто я забыл о нем.
А уж потом, когда «таможня даст добро», выдать кое-какие подробности плана, которые впрямую касаются Квентина. Мол, увы, государь, но придется пожертвовать сладостью предвкушаемой тобой мести, поскольку лучшей кандидатуры у меня не имеется.
Что касается самого свидания с царем, то получилось даже лучше, чем я надеялся, — он сам заглянул в класс, где я с помощью Макиавелли вразумлял Федора, каким надлежит быть государю, чтобы удержаться на троне.
Воистину, никогда не знаешь, что окажется полезным в жизни и как хитры и причудливы извивы судьбы. Если бы я не прочитал в свое время, что «Государь» был настольной книгой Сталина, то навряд ли заинтересовался бы ею в университете.
Получается, спасибо дорогому Иосифу Виссарионовичу за проведенное с пользой время.
Честно говоря, я и не заметил, когда именно Годунов по своему обыкновению аккуратно приоткрыл дверь, чтоб «приобщиться к мудрости», как он это называл.
Иной раз он заходил, махнув мне рукой, чтоб я не дергался — интересно, так ли вежливо он ведет себя с прочими учителями? — и присаживался на лавку, внимательно слушая, о чем идет речь.
Но случалось, как и сегодня, чтоб вообще меня не отвлекать, даже на секундочку, он попросту приоткрывал дверь и оставался стоять либо в проеме, либо вообще в коридоре.
— Так что же делать, если государству угрожает неведомый враг? — вдохновенно вещал я. — С ним, как известно, можно бороться двумя способами: во-первых, законами, во-вторых, силой. Первый способ присущ человеку, второй — зверю, но так как первого частенько не хватает, то приходится прибегать и ко второму.
— Стать зверем? — усомнился Федор. — Гоже ли?
Вошедшего отца он не видел, сидя к нему спиной, а потому вел себя как обычно, то есть раскованно и непринужденно, к чему я старался приучать его чуть ли не с самых первых дней — уж очень давил на него авторитет бати, в присутствии которого он вообще порой терялся.
— А ты вдумайся, царевич. Отчего это древние эллины отдавали Ахилла и прочих героев на воспитание кентавру Хирону? Только для того, чтобы они приобщились к его мудрости, или еще кое-зачем? Я зрю в этом ясное указание, что истинный герой или государь должен совмещать в себе обоих, оставаясь человеком, но при необходимости умея выпустить из души и зверя. Причем зверь должен непременно соответствовать обстоятельствам: где львиная шкура коротка, там надо подшить лисью. Коль перед тобой на пути выставили капканы — стань лисой, а чтоб отпугнуть волков, превратись во льва. И весь секрет управления заключается в том, чтобы знать, когда следует быть тем или другим.
— Но ты же только что сказывал о чести, доблести, прямодушии и прочих добродетелях. Как же, став зверем, сохранить их? — запротестовал царевич.
— Увы, Федор Борисович, чтобы удержаться у власти, неуклонно следовать добродетели не только вредно, но и опасно. Но и от своих прежних слов не отказываюсь: надо делать все, дабы выглядеть в глазах людей, будто ты и сострадательный, и милостивый, и благочестивый, ведь люди большей частью судят только по внешнему — увидеть дано всем, а потрогать руками — немногим.
— А на самом деле зверь… — упавшим голосом протянул Федор.
— Да зачем же зверь?! — возмутился я. — И внутри будь таким же. Речь идет совсем о другом — ты должен быть готов в любой миг проявить и противоположные качества, если без них никак не получается обойтись. То есть старайся творить добро, но помни, что при необходимости нельзя бояться и зла.
— Но ведь кто-то, да и не один, все равно узрит, что я…
Он даже договаривать не стал — так ему было неприятно произносить слово «зверь».
— Увидят немногие. И беды в том нет — спорить с подавляющим большинством, тем более за спиной которого стоит государство, они не посмеют. Они и сами побоятся произнести такое, а если и скажут, то их затопчут прочие. Пойми, что судят о государях по тому, в каком состоянии их держава, поэтому ты будешь всегда оправдан, но только в случае, если сохранишь власть и одержишь победу над всеми врагами, как внутренними, так и внешними. А уж какие ты употребил для этого средства, неважно — все равно их одобрят.
— Грех, — строго произнес Федор.
Я усмехнулся и твердо заверил:
— Церковь тоже простит — она добрая, когда грешат правители, тем более не по собственной прихоти, но для блага страны. Вспомни, ты сам рассказывал мне, как лихо резал новгородцам носы и выкалывал глаза великий Владимирский князь Александр Ярославич. Зато он — победитель, потому ныне и святой.