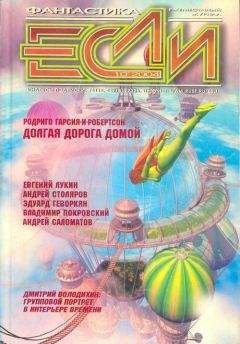Я надеялся тогда, что ярость придет в процессе, но этого никогда не происходило — в общем-то, я нервничал и скучал.
Женька старался поддержать реноме, он был сильнее, валил меня иногда одним ударом, но, дурак, добить не пытался, а потому я вскакивал, визжа и плача, и снова принимался за реализацию плана. Шпана, им науськиваемая, начала если не бояться, то, как минимум, уважать меня — получил, уйди, да и мы уйдем, в тебя не плюнув, и вообще авторитет Грузина стал резко падать. Шпана не помогала, я нападал снова и снова.
Учителя обо всем знали, конечно, однако не вмешивались и, как мне кажется, с большим интересом следили за ходом нашего поединка. Болея исключительно за меня, потому что Грузин своими выходками их достал. Впрочем, не было тогда такого слова — «достал».
В конце концов он начал дергаться при виде меня, и родители перевели его в другую школу, а я стал неприкосновенным. Хотя неприкосновенность эта была для меня — как проездной кондуктору.
Голый кондуктор бежит под вагоном. The naked conductor runs under the carriage. I iron with the iron iron. Don't trouble trouble trouble till trouble troubles you. Но это так, к слову.
Собственно, неприкосновенным, если не считать конфликтов с Грузинским, я был практически во всех школьных периодах моих жизней Сурка. Меня, конечно, принимали за своего, я вообще по натуре общительный парень. Но их пугали мои особенности, в частности, мое свойство предсказывать будущие события. Мало того, что я не удерживался и каждый раз предсказывал им войну в Афгане, а потом череду смертей генсеков, безошибочно угадывая преемников, мне довольно часто удавалось быть пифией и местного масштаба. Поначалу, в первых жизнях, это получалось у меня не так чтобы очень хорошо, потому что, как выяснилось, я немногое помнил о школьных временах, но потом я выучил их наизусть с точностью до одного дня и иногда позволял себе развлечение.
Василь Палыч, которому я в каждой жизни Сурка неизменно, но косвенно признавался в своей особенности, безуспешно добиваясь ответной реакции, при каждом моем пророчестве косился на меня то весело, то удивительно мрачно. Остальные реагировали порой с восторгом, порой нейтрально (ну, подумаешь, предсказал, мы еще и не то видели!), но всегда с некоторой опаской. Учителя, исключая Василь Палыча, делали вид, что все нормально и ничего не происходит, и они вообще ничего не слышали — уж что они между собой про меня жужжали, я так и не выяснил, да и не собирался никогда.
Один минус жизни Сурка — из-за Иришки мне ни разу не удалось влюбиться по малолетству. Романтические волнения пубертатного периода снизились до уровня обычного сексуального голода, правда, очень сильного. Я его без особых трудностей удовлетворял, причем начал я это делать намного раньше, чем в первой жизни. Чрезмерных ожиданий, свойственных подросткам, у меня, естественно, не было — я знал, чего от постели ждать.
Но за некоторыми исключениями, типа только что описанного, жизнь несла меня по своему течению точно так же, как и в самый первый раз, до убийства. Изменить в ней что-нибудь кардинально было довольно трудно, требовались серьезные усилия, на которые я ленив. Да как бы вроде и ни к чему. Исключения составляли «точки бифуркации», то есть те моменты, когда от принятого решения или даже просто от какой-то мелочи, вроде порыва ветра или просто оброненной газеты, зависит течение всей твоей будущей жизни. У меня во всех моих без исключения жизнях Сурка таких точек было на удивление мало. Скажем, в школьном периоде я их насчитал всего три, да и то насчет одной я по-настоящему не уверен. Тут, правда, следует уточнить, что моя жизнь вообще представляет собой исключение из правил, поэтому в качестве примера ее приводить нельзя. Но тем не менее мы все с вами прекрасно отдаем себе отчет в том, что человеческая судьба быстро набирает инерцию и всяким неожиданностям, незапрограммированным поворотам мощно сопротивляется — я, конечно, не имею в виду упавший с неба кирпич, автокатастрофу или тому подобные инциденты. Вообще я заметил, что количество точек бифуркации зависит в первую очередь от характера человека и только во вторую — от высоты занимаемого им положения. Насчет этих двух пунктов я мог бы говорить долго, но речь о другом.
Не знаю, стоит ли, но хочется рассказать об одной подробности, к теме имеющей непонятное отношение. Дело в том, что довольно скоро в школьных периодах моих жизней Сурка я начал заниматься тем, что позднее назвал шлифовкой поведения. Тут странная вещь — будучи вполне взрослым, даже несколько умудренным мужиком в мальчишеском теле, я часто ловил себя на том, что совершаю дурацкие, мальчишеские поступки. Я, потаенно хихикая, подкладывал приятелям кнопки под задницы, дергал девчонок за косички, подставлял им подножки и вообще участвовал в великом множестве шалостей, которых взрослый человек ни за что бы себе не позволил. Возможно, мальчишка, тело которого я узурпировал (мое собственное, заметьте!), стучался наружу, пытался одолеть меня, но не думаю. Скорее, наоборот: во мне, как и во всяком другом, дремлет несмышленый человечишко нескольких лет от роду, а вся наша возрастная умудренность, весь наш так называемый жизненный опыт — ничто перед его неистовым желанием побыстрее все увидеть, все пощупать, все попробовать, узнать все земли, отыскать все клады… Наша взрослость с этой точки зрения есть не что иное, как последовательная серия более или менее успешных попыток поглубже запрятать и без того глубоко упрятанные разочарования.
Так или иначе, но в первых классах я довольно много шалил и даже имел двойки за поведение. Но шлифовка этого самого поведения, которой я старательно занимался на протяжении то ли десяти, то ли пятнадцати жизней Сурка, касалась вовсе не моих шалостей, а мелких пакостей и даже микроподлостей, творимых мной время от времени по причинам, которые мое сознание отказывается не признать известными. Микроподлость — неправильный термин, как и микробеременность. Подлость есть подлость, и я за собой ее, к сожалению, признаю. Я просто имел в виду очень мелкие, почти незаметные глазу предательства. Они меня огорчали.
Было несколько таких моментов в школьном периоде моей самой первой жизни, и я их потом всегда стыдился. Удар исподтишка, мелкое воровство, совершенно ненужное и противоречащее вбитым в меня правилам, мелкая трусость (из-за нее я не защитил своего приятеля, которого били за то, что он еврей)… Сюда же относились и мои конфликты с Грузинским, хотя здесь я не трусил, а просто спускал ему удары и оскорбления. Словом, набиралось штук пять-восемь поступков, которые я мечтал исправить.
Исправить их оказалось очень легко и без особого урона для физиономии, если не считать удара в глаз от Шляпы — Витальки Шляпугина, который дружил с Грузином: он бил на перемене Борю Зильберштейна, брата Нели Певзнер, за то, что тот еврей, и без предупреждения получил от меня по сусалам. Я был тогда разъярен, но не настолько. Опомнившись от изумления, Шляпа принялся было давать мне сдачи, успел поставить мне фонарь, но тут появилась завуч, грозная и злобная Алевтина Сергеевна, которая и спасла меня от неминуемой экзекуции.
К моему удивлению, сразу же оказалось, что подобных, правда, более безобидных, пакостей я совершил куда больше, чем помнил. Я, например… впрочем это уже мое совсем личное дело. В общем, гадил. Мелочей набиралось множество, я не успевал их отслеживать, а справившись с одной, тут же натыкался на другую. Я оказался совсем не таким хорошим человеком, как о себе думал. Иногда заусенцы, как я их называл, оказывались совсем новыми, их автором был уже не тот довольно симпатичный, но одновременно и мерзопакостный пацан, которым я был в первую свою жизнь, а взрослый тридцатисемилетний мужик с репутацией до наивности честного, доброго, что называется, «хорошего» человека. На самом-то деле я хорошо понимал, что этим определениям отвечаю не полностью, но даже и в страшном сне не мог вообразить себе, насколько не полностью.
Откуда что берется — на многие мои жизни Сурка я, человек по жизни бесхребетный, поставил себе главной целью на время школьного периода полностью отшлифовать свое поведение и, надо сказать, прогресса достиг немалого. У меня время было, не то что у вас. Я полностью избавился от приступов мелкой клептомании (о которой прежде совершенно не помнил), превратил боязливость в разумную осторожность и научился не медлить более секунды (это было самое сложное), прежде чем вступиться за несправедливо обиженного; приступы скупости, всегда неожиданные и отнюдь не такие редкие, как мне до того мстилось, я почти полностью победил… словом, микроскелетов в моем школьном шкафу за те 10–15 жизней Сурка существенно поубавилось.
Я до сих пор иногда задумываюсь, в чем была действительная цель столь долгой и упорной шлифовки, и ответа не нахожу. Точней, у меня есть несколько довольно убедительных объяснений, но ведь известно, что когда есть десять объяснений какому-то поведению, то верным оказывается одиннадцатое. То есть про себя-то я давно решил, что знаю, в чем дело.