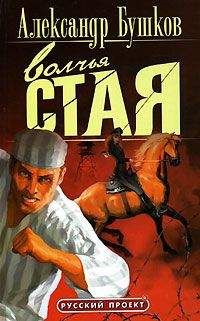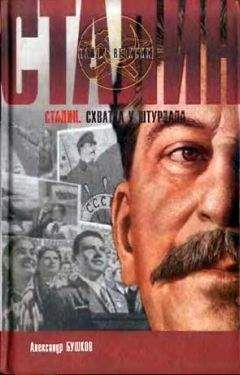в черную тоску бросит...
Ну что оставалось делать? Тарик пошел дальше. Хорошее настроение от удачного дня поистаяло, даже напоминание о том, что Тами послезавтра пойдет с ним на ярмарку, утешало мало. Сначала Титор Долговяз прицепился, тянет в ушеслышцы — и не куда-нибудь, а к Гончим Создателя, — теперь Хорек. Причем Брюзга и в самом деле сболтнул нечто такое, в чем можно, видимо, и усмотреть ересь, а вот Хорек, чтоб ему на банку черепица упала, как говорят в деревне, плетет веревку из сухого песка, на голом месте пузырь надувает. И ведь и сообщник у него завелся в Сыскной (наверняка насчет него не врет), и кто-то гниловатый на Аксамитной (и насчет него вряд ли врет) — случалось уже, что натворившие дел мальчишки, боясь Воспиталки, начинали нюхаться со Стражей...
Никак нельзя сказать, что Тарика грызло беспокойство. Нет за ним прегрешений, нет хвостов, которые можно на кулак намотать, да и папаня защитит от вовсе уж облыжных обвинений. А все равно скверновато: заполучить Хорька в лютые враги — приятного мало, придется долго жить с оглядкой, святее святого быть, а это трудновато...
И вдобавок цветок...
Есть средство. Ежели поговорить с Марлинеттой... Так-то она девушка добрая, отзывчивая, перед теми ее подругами, что не раздружились с ней из зависти, нос не задирает, нарядами и украшениями сильно не хвастает. И с Тариком в добрососедских отношениях, особенно после того, как узнала, что он в прошлом месяце настучал как следует Гарами-Лопоухому, когда тот говорил о Марлинетте гадости и собирался написать у нее ночью на воротах грязные слова. Даже заигрывать пробовала, не по-настоящему, атак, игры ради, но перестала, когда сообразила, что Тарика этим не сконфузишь. Поговорить с ней откровенно — и наверняка найдется друг с гербом, который быстро вправит Хорьку ума, тем более что сама она Хорька терпеть не может...
Заманчиво, но не пойдет. Из-за той же негласки. Марлинетта старше его на три годочка — значит, взрослая. Не годится вмешивать взрослых в свои дела, тем более женщин...
Есть кручина посильнее — цветок баралейника...
Это уже четвертый за полгода — и вновь никто его не видит, кроме Тарика. Первый раз цветок попался ему в Городе, на Рыбном рынке, когда папаня послал за вяленой салакушкой к пиву. Висел на высоте дома, уже потускневший. Тарик на него таращился, как на чудо невиданное, так что торговка сердито спросила, не уснул ли он стоя, будто конь. И оказалось, что ни она, ни люди рядом не видят цветка, словно сотканного из черного дыма. Покупатели зашумели, чтобы не задерживал, и Тарик, расплатившись за рыбу, убрался побыстрее. Даже от потрясения забыл взять пять грошей сдачи — и торговка закричала вслед, чтобы вернулся: она, мол, женщина честная и богатеть на раззявистом Школяре не собирается. В общем, получился сплошной конфуз...
И еще два раза он видел в Городе, над крышами (один раз это был дворянский особняк с гербом над входом, вдругорядь — «муравейник»), такой же в точности цветок, на который прохожие не обращали внимания, будто его и не было. Во второй раз Тарик растерялся до того, что сграбастал за шиворот оказавшегося рядом Недоросля (к взрослым обращаться поостерегся), показал на крышу и спросил:
— Что там видишь?
— Крышу, — сказал Недоросль, нетерпеливо притопывая. — Еще ворона на трубе сидит...
— А еще? — спросил Тарик.
Ворона сидела аккурат под цветком.
— Дай все! — ответил Недоросль. — Чему там еще быть?
Тарик его отпустил и ушел. О цветке он не рассказал никому из своей ватажки: в третий раз они шли мимо «муравейника» в полном сборе, все пятеро, да еще с двумя Приписными, и Тарик убедился, что цветок видит он один, и Данка-Пантерка спросила недоуменно, что это он так засмотрелся на самую обыкновенную, даже без флюгеров и затейливых колпаков дымовых труб, крышу...
И вот теперь — четвертый, на родной улице. И разговор с рыбарем, крайне примечательный, многое прояснил. Зоркие, они не Видящие — но о тех и о других есть исключительно сказки, а в жизни они не встречаются, в жизни о таком не слышал. Но сейчас... Получается, он — сказочный Видящий? Поверить невозможно. Такого не бывает! Даже Чампи-Стекляшка, первый книгочей с улицы Серебряного Волка, к которому все прислушиваются, когда речь зайдет о чем-то книжном, как-то говорил: господа ученые книжники (его обычный оборот, произносившийся со значительным лицом) единодушно полагают, что иные умения — как черные, так и белые — с бегом времени пропали без следа, потому что понемногу исчезли люди, ими владевшие, а почему стало именно так — неизвестно. И те чародейные стеклушки, про которые сегодня говорил рыбарь, давно уже людям не попадались...
А в деревнях, если рыбарь не прихвастнул, сии и посейчас есть, и Видящие, именуемые там Зоркими, преспокойно обитают наяву. Что бы там ни было, сомнению не подлежит одно: рыбарь тоже видел черный цветок баралейника где-то над городскими крышами...
У Тарика звучали в ушах слова рыбаря: «Так оно завсегда бывает — передается не от отца к сыну, а от деда к внуку, и непременно от деда по матери». Если и в городе с этим обстоит так, как в деревне, Тарику это передалось от отца мамани...
Отца папани, дедушку Загута, он никогда не видел — тот погиб в море, когда отец был еще Школяром, а через три года умерла так и не ставшая бабушкой Тарика его жена. Как сказала однажды, вздыхая, маманя, — от черной тоски...
Вот отца мамани, дедушку Тиверела, он знал гораздо лучше. До пяти лет жил в его доме на Раздольной — а потом папаня, прочно встав на ноги и малость забогатев, отделился, купил дом
на улице Серебряного Волка, и они туда переехали. Дедушка Тиверел держал всех домашних в строгости, не только внуков, но и папаню с маманей, но все же Тарик его не боялся и любил. Строг был дедушка, но справедлив, никогда не наказывал зря, не кричал, не ругался, а гнев его чаще всего выражался в том, что он хмурил кустистые брови, становился строже лицом — и это, честное слово, действовало на Тарика со старшим братом сильнее, чем ругань и порка. Да и никогда дедушка их не порол, и папане не позволял. Наказание заключалось в том, что Тарика или брата (порой обоих вместе) сажали на крышку колодца и оставляли сидеть на разное время, в зависимости от тяжести