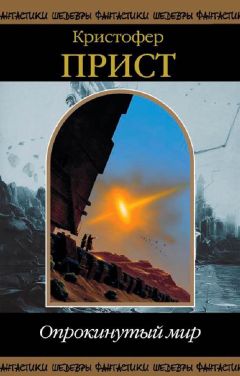Но двойственность все же оставалась. Я знал, что это машинописное определение меня тоже реально, что моя жизнь была прожита в каком-то ином месте. Чем больше я осознавал масштаб многообразия и красоту Архипелага Грёз, тем меньше я мог в нее поверить.
Если Сери была частью этого осознания, она тоже не могла существовать.
Чтобы утвердиться в понимании своей внутренней реальности, я ежедневно читал свою рукопись. Раз за разом я все глубже прозревал ее смысл, научался превосходить слова, вспоминать и узнавать ненаписанное.
Этот корабль был средством достижения цели, он уносил меня во внутренние странствия. Покинув его и ступив на берег, пройдя по городу, известному мне как Джетра, я буду дома.
Мое понимание метафорической реальности совершенствовалось, моя внутренняя уверенность прирастала. К примеру, я разрешил проблему языка.
После лечения меня ввели в мир через язык. Теперь я говорил на том же языке, что и Сери, на том же, что и Ларин. До какого-то момента я об этом не задумывался. Этот язык стал моим родным, и я пользовался им инстинктивно. Читая свою рукопись, я ничуть не удивлялся, что и в ней использован тот же самый язык. Я знал, что этот язык – основной для Сери и Ларин, что на нем говорят все врачи и сотрудники клиники, что говорящего на нем поймут на любом из островов Архипелага. На нем говорила команда корабля, на нем печатались газеты и писались вывески.
(Впрочем, он не был на Архипелаге единственным, там бытовало кошмарное количество языков и диалектов, и каждая группа островов говорила на своем, особом. В довершение стоит упомянуть некий трансостровной жаргон, употреблявшийся в качестве средства общения на всех островах Архипелага, но не имевший письменности.)
Через день после того, как корабль покинул Мьюриси, я вдруг осознал, что мой язык называется английским. В тот же самый день, прячась от солнца на лодочной палубе, я заметил старинную табличку с надписью, намертво приклепанную к переборке. Сквозь многие слои позднейшей, наложенной при ремонтах краски проступали большие выпуклые буквы: Defense de cracher [3]. Мне и на секунду не подумалось, что эта надпись сделана на одном из островных языков; я сразу же понял, что этот корабль французский или хотя бы был когда-то французским.
Но где же они расположены, эта Англия и эта Франция? Я перебрал все карты Архипелага, внимательно изучил очертания всех побережий, но успеха не добился. И все равно я знал, что я англичанин и что где-то в моем смятенном мозгу сохранились обрывки французского, достаточные, чтобы сделать заказ в ресторане или спросить дорогу к своей гостинице.
Но каким таким образом смог английский распространиться по всему Архипелагу в качестве официального языка, языка газет, магазинов и учреждений?
Подобно всему остальному, с чем я сталкивался последнее время, этот факт укрепил мою веру во внутреннюю жизнь, углубил недоверие к внешней реальности.
Чем дальше заплывали мы на север, тем меньше пассажиров оставалось на корабле. Ночи стали совсем холодными, и теперь я больше засиживался в своей каюте. В последний день я проснулся с ощущением, что уже полностью готов сойти на берег. Я еще раз перечитал свою рукопись, ежесекундно сознавая, что наконец-то могу читать ее с полным пониманием.
Мне представлялось, что она может быть прочитана на трех уровнях.
Первый содержался в написанных мною словах, в машинописном тексте, излагавшем случаи из моей жизни, многие из которых показались Сери абсолютно непонятными.
Затем были карандашные исправления и зачеркивания, сделанные Сери и Ларин.
Ну и, наконец, было то, чего я не писал: пробелы между строк, намеки, сознательные упущения и твердая надежда на понятливость читающего.
Меня, о котором это было написано. Меня, который будто бы это написал. Меня, которого я помнил, которого мог предвидеть.
В моих словах была жизнь, прожитая мной до Коллаго. В поправках Сери была жизнь, мною принятая, обрывочная и еле намеченная карандашом. В моих упущениях была жизнь, к которой я вернусь.
Там, где в рукописи была пустота, я определял свою жизнь.
24
Вечером мы пришвартовались к высокому мрачному острову, именовавшемуся Сивл. Все мои познания о Сивле ограничивались тем, что здесь, по ее словам, родилась Сери, а также что это ближайший к Джетре остров и место нашей последней стоянки. Эта стоянка оказалась необычно долгой: здесь сошли на берег едва ли не все оставшиеся пассажиры и было принято на борт много груза. Я мерил шагами палубу, горя нетерпением закончить свое долгое путешествие.
За время стоянки вечер превратился в ночь, но как только мы покинули гавань и обогнули темный гористый мыс, я увидел впереди на низменном побережье цепочку огней огромного города. Дул сильный холодный ветер, и нас изрядно качало.
Из салона не доносилось обычных для такого времени голосов, я был одним из очень немногих оставшихся на борту пассажиров.
Сзади послышались чьи-то шаги, они приблизились ко мне и замерли; я знал, кто это, даже и не глядя.
– Почему ты сбежал от меня? – спросила Сери.
– Я хотел вернуться домой.
Она обвила меня правой рукой и плотно ко мне прижалась. Ее била дрожь, возможно, от холода.
– Ты сердишься, что я тебя поймала?
– Нет, конечно же, нет. – Я повернулся, обнял ее и поцеловал в холодную щеку. На ней были юбка и легкий, не по погоде, блузон. – А как ты сумела меня найти?
– Я взяла билет на самый быстрый рейс до Сивла. Все корабли, идущие в Джетру, делают здесь остановку. Так что мне оставалось только ждать, пока придет нужный.
– Ну зачем тебе это все?
– Я хочу быть с тобой. Я не хочу, чтобы ты жил в Джетре.
– Но меня привлекает совсем не Джетра.
– Именно что она. Ну зачем ты сам себя обманываешь?
Городские огни стали ближе и ярче, к берегу размеренно катились грузные черные волны. Впереди и вверху облачное небо окрасилось в грязно-оранжевый цвет. Позади еще виднелось несколько островов – смутные, безликие очертания. Я чувствовал, что они ускользают, стряхивают путы моего восприятия.
– Здесь мой дом, – сказал я. – Здесь вся моя жизнь. А на островах я чувствую себя чужим.
– Но ты уже успел с ними сродниться. Ты не можешь просто вот так их бросить.
– Вот как раз это-то я и могу.
– Тогда ты бросишь и меня.
– Я уже принял решение. Я не хотел, чтобы ты ехала за мной следом.
Сери отпустила меня и отодвинулась. Я шагнул следом, взял ее за руку и попытался поцеловать, но она отвернулась.
– Сери, не нужно нагнетать обстановку. Я должен вернуться домой.
– Ты будешь разочарован. Ты окажешься в Джетре, а ведь это совсем не то, на что ты надеешься.
– Я знаю, что я делаю, – сказал я, думая о тройственной природе своей рукописи, о неизбежной безликости того, что будет.
До входа в гавань было еще далеко, но корабль уже лег в дрейф. К нам торопился лоцманский катер – черное пятнышко на фоне искрящегося отраженным светом моря.
– Питер, подумай лучше, остановись.
– Я пытаюсь, я должен найти одного человека.
– Кого?
– Ее зовут Грация. Ты же читала мою рукопись.
– Остановись, так ты только причинишь себе лишнюю боль. Нельзя принимать все, что есть в этой рукописи, за чистую монету. Ты сам говорил в клинике, что все там написанное – это некие фантазии, выдумки. Грации не существует, Лондона не существует. Ты это все придумал.
– Однажды, – сказал я, – ты была со мною в Лондоне. Ты ревновала к Грации и говорила, что она выводит тебя из равновесия.
– Я никогда не покидала островов! – Она взглянула на сверкающий город, ветер трепал ее волосы и кидал их ей в глаза. – Я в жизни не бывала здесь, в Джетре.
– Я жил у Грации, и ты там тоже бывала.
– Питер, мы встретились в Мьюриси, я работала тогда на Лотерею.
– Нет, – сказал я, – теперь я все могу вспомнить.
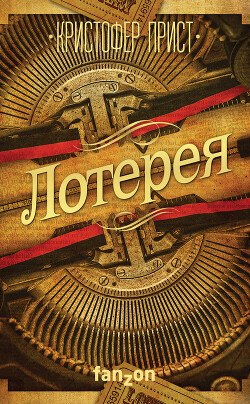
![Лотерея [Подтверждение] - Прист Кристофер](https://cdn.my-library.info/books/376509/376509.jpg)
![Кристофер Прист - Лотерея [Подтверждение]](https://cdn.my-library.info/books/104657/104657.jpg)