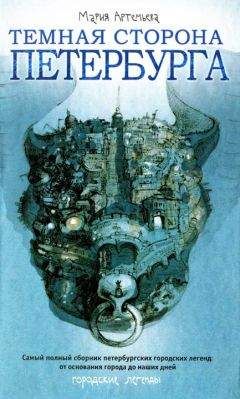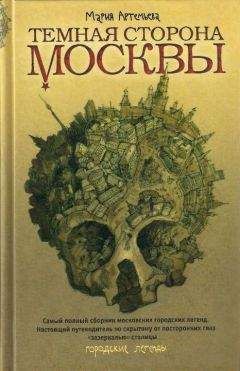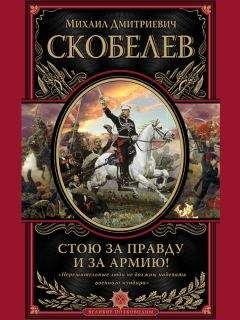Ознакомительная версия.
В похоронных конторах так трупы подмалевывают — чтобы погребающих не смущать чудовищным видом смерти. А суть этих женщин — та же. Они в себе смерть несут. Грязь кладбищенскую, могильных червей и прах.
Обидно, что поначалу ничего этого я не понимал. Вспомнить страшно, каким жалким юнцом я был, впервые угодив в подобную ловушку. Если и делал я тогда попытки освободиться, то разве от отчаянья только, как муха, попавшая в паутину, впервые ощутив скованность лапок, да вдруг пугается этого и начинает дергаться. Осложняя тем самым свое положение, все сильнее запутываясь и приближая погибель.
Настоящее осознание пришло гораздо позже. После первого акта очищения, который я совершил чуть ли не по случайности.
В тот день, 10 июня, помнится, я как раз заходил в лавку Бажо на Александровском рынке. Надо было мне купить хороший нож для домашнего пользования. Никогда в гостиницах и пансионах не встречалось мне ни разу удобного ножа.
Шваль догнала меня на пустынной улице вечером, когда я возвращался уже на квартиру. И пристала, надеясь подзаработать. Нет более хищных тварей на свете, чем проститутки. Я отказался, выразив ей свое презрение, и ускорил шаг.
Тогда эта мразь, отребье, выродок рода человеческого, оскорбившись, что я пренебрег ее телом, стала насмехаться надо мной. Мое черное длинное пальто она назвала рясой, а меня — монашком. Сказала, что я, видать, беднее ее, раз не имею лишнего рубля на «мужские удовольствия». Глядя, как я молчу, тихо и безответно, гнусная тварь разлакомилась, вошла в азарт. Настойчиво желая причинить мне душевную боль, заявила, что я и не мужчина вовсе, раз отказываюсь от ее услуг. «Такие, как ты, только по виду мужики, а на деле — пшик!» — смеялась она. Кривлялась, делала непристойные жесты и даже тыкала в меня пальцем, чего я совершенно не выношу. Я не выношу, когда ко мне прикасаются.
Но и это все вытерпел я со смиренностью агнца, и только ускорял шаг, чтобы скрыться от нее. И тут она заметила мою походку.
Я высок и оттого сутуловат: когда тороплюсь, размахиваю руками, а руки у меня худы и кажутся длиннее, чем это должно быть, исходя из соразмерности.
«Э, да ты обезьяна! Чисто обезьяна, — закричала тварь. — Руки ниже колен, как у гамадрила. Небось на четырех лапах быстрее бегаешь? Ну, беги-беги. Тебя в зоосаде-то давно спохватились!»
И так, всячески оплевав и опозорив меня, ничем перед ней не виноватого человека, эта дрянь потеряла ко мне интерес и повернулась спиной, чтоб спокойнехонько себе удалиться.
Этого-то я и не снес: ее спокойствия и уверенности. Она полагала, что может творить любые мерзости, и невинные жертвы ее грязного промысла смиренно снесут ее злобные выходки, проглотят обиды.
Я опустил руку в карман и наткнулся на нож, который лежал там завернутым в плотную бумагу. Рукоятка, сделанная из рога оленя, массивная, слегка выдавалась из свертка. Я непроизвольно сжал ее, ощутив, как удобно и ловко располагается она в руке, как она жестка, тверда и основательна. Ее твердость и придала мне сил.
Меня озарило. Мгновенно я выхватил из свертка нож, в три прыжка догнал злобную гадину, упыря в сладкой личине женщины, и с размаху всадил сталь в ее мягкое тельце. Потом еще раз. И еще. И снова. Гнусная кровь ее брызнула мне в лицо; гадина стонала, обмякшее тело подпрыгивало при каждом новом ударе, дергалось, но я крепко вцепился своими «обезьяньими лапами», не давая ей упасть.
Чувствовал я при этом бешеный восторг. Очищающая судорога прожгла меня насквозь. Под упругими ударами теплой волны я ощущал такую сладость освобождения, что это даже походило на боль. Я пребывал вне разума, как новорожденный младенец, — разум мой в этот миг был абсолютно свободен; никакие ужасные мысли не обременяли его. Даже сознание смерти, которое всегда присутствует и подавляет любого человека — незримо, но угнетающе воздействуя на психику, — даже оно отступило. Я погрузился в теплую вечность тьмы. Сама мерность и материальность человеческого мира, казалось, отступили от меня.
В это мгновение мне открылось, чего я хотел достичь первоначальным своими детским порывом. Что поможет мне искупить все предыдущие грехи в этом мире. Думаю, в этом состоит мое призвание и для этого-то я и пришел в мир. Да, для всех остальных людей сделаюсь убийцей, чудовищем вне закона. Но в глазах Божьих я, страдающий агнец, вознесен быть мечом Его, мечом карающим и очищающим!..
В общей сложности я нанес той девице десять или двенадцать ранений. Когда жизнь ее покинула и мои судороги прекратились, я увидел себя держащим на руках размалеванную куклу, отброшенную актерами после представления. Демон, обитавший внутри этой твари, ушел. Пошлые голубые глазки остеклянело пялились на меня в изумлении; подбородочек, почти детский, с симпатичной ямочкой, выглядел особенно чистеньким и белым по сравнению с окровавленной, развороченной, как туша на бойне, грудью. Небольшой пухлый ротик, измазанный кармином, открылся безвредно, как пустой мешочек, из которого уже вытряхнули все опасное, что могло в нем содержаться. Это была оболочка гадины — пустая и никчемная.
Я выкинул ее в Неву.
Но сначала отнял у мертвой ее деньги — ведь они ей уже никогда не пригодятся. Обтер ее юбкой свое лицо, руки и нож. Нож я завернул опять в бумагу и убрал в карман. Все заняло не более семи минут. Во все это время улица оставалась пустынна, никто не видел меня.
Домой я вернулся засветло и очень счастливым.
* * *
Я решил расспросить потихоньку Мишу. Надо же все-таки разобраться, что подвигло его исписать стены призывами к убийству и какое отношение он имел к песенке про кровянику. Если, конечно, была тут вообще какая-то связь.
Оказалось, Миша и сам уже просится поговорить со мной. Я позвал его в кабинет.
Он вошел, застенчиво отведя косоватые глаза.
Я смотрел, как скромно он присаживается у стола, как пугливо обводит глазами стены. И жалел его. Сирота, воспитанник интерната, Миша Новиков с двенадцати лет мыкался по психиатрическим заведениям. Такие, как он, тихие и внушаемые, почти не имеют шансов выбраться когда-нибудь из-под чужой опеки. Очень жалко Мишу, но ничего не поделаешь. Отходы лечебно-педагогического процесса. У нас на Пряжке таких много. Большинство.
Миша сидел молча, уставясь в пол, и не решался заговорить.
— Ну, что же ты? Ты же хотел мне что-то рассказать? — подсказал я ему.
Мишин затравленный взгляд вспорхнул на мгновение к моему лицу, но тут же вильнул обратно. Разглядывать затертые тапки, грубо помеченные желтыми крестами масляной краски — да, больничное имущество. Чтоб домой не унесли. Хотя кому бы такая дрянь могла понадобиться? Ну, кроме Миши, который к этой дряни привык. Вот от него и пометили.
Ознакомительная версия.