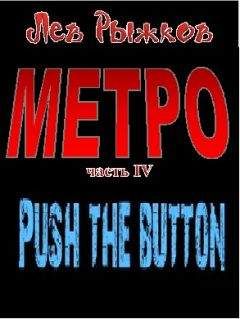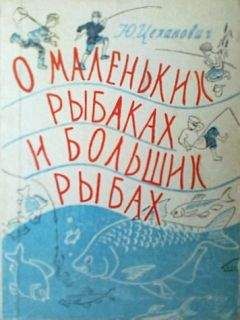Про аппетит можно было и не волноваться: Петер глядел в сторону, и лицо у него было пустое, как поверхность озера в безветренный день.
— Они налетали небольшими отрядами, иногда стреляли, но чаще подбирались вплотную и выскакивали из-под земли. Если мы успевали заметить переполох в охранении, к нашему подходу там уже не оставалось ничего, кроме трупов. В лучшем случае мы находили их просто так — в земле, со вспоротыми животами и перерезанными шеями. Про худший я уже говорил. Они не воевали против нас, они методично вырезали заразу, захватившую часть их земли. Мы чувствовали их злость. Не подумай, в этом не было ничего магильерского, то было другое. Их злоба висела над нами, как невидимая туча, которая не заслоняет солнца, но полнит душный воздух сполохами вроде искр. И искры эти жгли, готовясь вот-вот превратиться в самый настоящий пожар. Из деревеньки ночами уходили жители, шли в лес и тоже брали в руки оружие. Из других частей, расквартированных в соседних деревнях, нам докладывали о том же. Селяне, это глупое мясо войны, безмолвное, несмышленое, ленивое мясо, покорное, как пасущийся скот… они тоже начали действовать. Тебе неинтересно?
Петер вздрогнул от обращенного к нему вопроса, но все же мотнул головой:
— Интересно.
— Это ответ на твой вчерашний вопрос. Будь готов к тому, что смертоед может ответить. В общем, лето выдалось до крайности жарким, чего таить. Мы пытались что-то делать, но нас было слишком мало, да и делать ничего толком мы не могли. Несколько раз пытались прочесывать лес, но ублюдки были слишком осторожны, чтобы сидеть у нас под носом, они отходили далеко, дальше, чем мы могли двигаться сами, заводили нас в засады и топи. Именно там я научился так улыбаться, — я повернулся к нему левой стороной лица, хотя знал, что каждая линия моих рубцов известна Петеру, как морщины на собственных ладонях. — Удар пехотной палицы с железными скобами. Наш полковой лебенсмейстер говорил, что скорее поставил бы сто крон на то, что петух поднимется на Луну, чем на то, что ему удастся собрать мою голову в одно целое. Остальные гибли, калечились, зверели…
Я слышал, в Индии так ловят тигров — роют глубокую яму, в дно которой втыкают острые колья, сверху маскируют ее и заманивают в нее тигров. Тигр падает, но чаще всего выживает. Даже пронзенный в нескольких местах насквозь, он слишком живуч, чтобы умереть сразу — и тогда охота превращается в изматывающую травлю. К тигру нельзя подойти, потому что неосторожно сунувшегося под лапу он одним ударом превратит в истекающую кровью лепешку. Его тычут копьями, кидают в него камни, со всех сторон сразу, бывает, что и несколько часов подряд. Тигр звереет от боли и ярости, рвет собственное тело в клочья, пытается дотянуться до обидчика… Обычно до того времени, пока кто-нибудь ловкий не зайдет сзади и не добьет его сильным метким ударом. Я читал про такую охоту в венских журналах, быть может, они и врали, но мне так не показалось. У нас было что-то похожее, мне кажется. Этим тигром были мы — запертые в деревне, придавленные этой проклятой ненавистью, прущей со всех сторон, шипящей в воздухе, чернеющей в сумерках.
Селяне помогали «лесным», как могли, давали провизию, оружие, проводников. Нас же они заводили в болота и бурелом, давали павшую от болезней скотину и воду с толченым стеклом. Они ненавидели нас так сильно, что мне казалось, будто соломенные крыши в любой момент могут вспыхнуть от этой ненависти, столько в ней было жара. Мы начали вешать их, сперва по одному-двум в неделю, потом по пятерке за каждого погибшего имперского солдата. Но мы были тигром, размахивающим когтями в воздухе. И чем громче был рык, тем больше людей выжидало минуты для завершающего удара.
Подкреплений не было, приказов тоже, пошел слух, что нас будут морить здесь до самой зимы. Исчезали дозорные, исчезали спящие в избах солдаты, исчезали ушедшие в лес и даже вышедшие на дорогу в сумерках. Время от времени французам удавалось вырезать сразу целые отряды, когда те шли на помывку к реке. В отместку фойрмейстеры обычно сжигали заживо пару десятков местных, но толку от этого не было никакого. Сполохи были все ближе, и под конец мы целыми днями сидели взаперти, боясь высунуться даже на улицу. Мерзко, верно?
— Да, господин тоттмейстер.
— Ты не видел, не чувствовал!.. — я бесцельно сжал руку в кулак, понимая, что тщетно передать мальчишке, не вдыхавшему запах сгоревшего пороха, все то, что видел я, и что сохранилось в моей памяти лучше, чем багровые и бледные шрамы на моем лице. — Я помню это время, долгое и муторное, как приступ лихорадки. Мы посылали к ним мертвецов — я и мои товарищи — но от этого не было толку. Французов уже не пугали мертвецы с их зияющими ранами, а больше мы напугать их ничем не могли. Мы можем распоряжаться лишь тем, что смерть благосклонно оставила нам после своего пиршества, так повелось. Но однажды я нашел выход. И с тех пор меня в полку стали звать за глаза Шутником.
— Какой? — очень тихо спросил Петер. Он все-таки смотрел на меня. — Какой выход?
— Не помню, как это пришло мне в голову. Может, я был пьян, хоть и вряд ли — еще месяц после памятного удара моя голова трещала, как головешка в печи. Так что был в своем уме, насколько это позволительно смертоеду, — я негромко рассмеялся. — Я поднял человек десять из числа «лесных», их трупы по обыкновению насаживали на колья ради, как говорил господин хауптман, поучительного примера с целью надлежащего отношения. Они все были в мундирах, старых, висящих лохмотьями. Большую часть прилично порубили в схватке, такие мертвецы не годятся толком даже для рукопашной. Я дождался ночи и отправил их в лес.
Ночь выдалась лунная, как сейчас помню, луна была похожа на огромный постный блин без масла, застывший посреди неба. Мои мертвецы промаршировали до опушки, потом разбились на пары и принялись танцевать. Дикое зрелище, признаться. В полной тишине, освещенные лишь луной, они беззвучно кружились в танце, ведя друг-друга, изысканно и элегантно, как на балу. Они танцевали кадриль, полонез и всё, что я мог припомнить, а я не большой знаток по части нынешних танцев… Безумный танец мертвецов в ночном лесу, от которого у случайных зрителей от ужаса замерзали глаза. Из рассеченных животов вываливались внутренности, но никто этого не замечал, два десятка ног слаженно выполняли па, точно под ногами у них был не гнилостный мох, залитый несвежей кровью, а вощеный паркет бального зала. Они танцевали без усталости, не сбиваясь с ритма, не замечая ничего вокруг. Это было похоже на механический орган, играющий без помощи человека, — много сложных движений, но ни в одном из них нет человеческого прикосновения. Гладко, бездушно и слаженно. Дьявольский это был танец, малыш. Мертвецы танцевали полночи напролет, а потом я свалился с ног сам, чуть не доведя свою голову до настоящей горячки. Мозги мои после ранения еще были не в форме, и это усилие чуть их не убило.