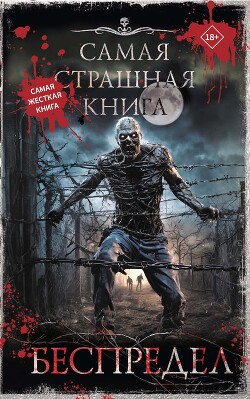Чудовищный сон, как это часто бывает, всплывал отрывками. Мне снилась Крис, это точно, и какое-то жуткое здание на холме, под которым… Плечи затрясло ознобом. Конечно, долбоеб, высосал почти литр ледяной воды! Я отшвырнул пустую тару и раскатисто рыгнул. Вот же ж хуйня какая, а? Надо тряхануть Гвоздя, что за убийственную дрянь он мне впарил.
Все еще поеживаясь, я поплелся обратно в спальню. В гостиной меня и накрыло. Со стены в меня впились пронзительные фиолетово-черные глаза. Огромное лицо Крис вполоборота смотрелось задумчивым и почти живым. Когда прошел первый ахуй, я приблизился, с любопытством вглядываясь в подсохшие мазки. Я давно не рисовал, особенно так охуенно. Тем удивительнее, что сделал я это, похоже, пальцами – кое-где сохранились кривые отпечатки. Я вновь отошел, любуясь проделанной работой, и разочарованно сплюнул. Этот блядский штришок не дался мне даже в трипе! Картине все равно чего-то недоставало!
– Ебаное говно!
С психу я пнул воздух, словно мяч ударил. Пальцы больно шаркнулись о пол, поддели что-то мягкое, маленькое. Похожий на комок теста кусочек ударился о стену с еле слышным чавканьем. Что-то насторожило меня, заставило с опаской склониться над…
Конечно, это оказался не комок теста. Откуда, блядь, тесту взяться в моей берлоге? Это был язык. Пупырчатый, посеревший, явно сделанный из мяса язык. Я подцепил его двумя пальцами, поднес к носу. Воняло нечищеными зубами. Я задумчиво положил язык на стол. На газетку, словно так будет сохраннее. Между почерневшей ложкой и («Ты не боишься, что у меня СПИД?!») баяном.
В ванной почему-то долго не зажигался свет. Я вглядывался в кромешный мрак, ощущая стремную дрожь, ползущую по спине. Мертвый Гвоздь, с провалами на лице и глазами в брюхе, в темноте становился реальным. Он вставал из грязной ванны, тянул ко мне ебучие грабли с обгрызенными ногтями. Стоило серьезных усилий не сквозануть оттуда.
Лампочка наконец вспыхнула, заливая комнату мертвецким светом прозекторской. Внутри, конечно же, никого не оказалось. Бурое пятно у слива вполне могло оказаться ржавчиной, но в голове почему-то мелькнула мысль: «Бедный тупой мудак! Вечность без языка!» Мать вашу, да что за хуету я порю?!
Я вернулся в гостиную, отыскал мобильник. Пока рылся в записной книжке, косился на темное липкое пятно у двери, формой напоминающее Африку. Я ведь знаю его происхождение. Знаю, чем оно отличается от сотен других пятен рвоты, грязи, пролитого пива и оброненной жрачки, под которыми скрылся линолеум. Что скажешь, Крис, вопрошал я портрет. Что скажешь?
– Какого хуя, Миша, блядь? – заныл в ухо Симон.
Я дернулся, приходя в себя. Отодрал взгляд от фиолетовых зрачков на стене.
– Сёма, не спится?
Я не шутил. Действительно был настолько потерян, что не воспринимал время. Но этот подмудок все равно бы не поверил.
– Сосед, иди нахуй, да?! – зевнул Симон. – Выходной же, блядь! Дай выспаться рабочему человеку!
Сёма работал дворником в управляющей компании, жил тремя этажами выше меня и был лет на пять старше. Он был редкостным уебаном, от него вечно воняло говном, но в какой-то момент мы перестаем выбирать круг общения. Это он выбирает за нас. Торчок-затворник, живущий на пенсию предков, и дворник-алкаш – идеальная, блядь, парочка!
– Тебе какого хуя надо в такую срань?
– Гвоздь дури притащил, чистый термояд. Грешно таким в одно жало упарываться. Будешь?
Трубка запыхтела в сомнениях. Недосмотренный сон клонил Симона к подушке, а жажда халявы велела поднимать ленивую жопу и нестись ко мне. Сон победил.
– Бля, Миш, давай вечерком, а?
– Вечерком сможешь мой хуй пососать.
Симон запыхтел еще интенсивнее.
– Ай, твою ж… уболтал, чертяка языкатый! Ща прибегу!
– Вот и заебись… – тихо пробормотал я, тыча пальцем в отрезанный язык. – Вот и заебись…
Судя по скорости, Симон не прибежал, а прилетел. Звонок в прихожей пиликнул минут через пять. А может, это я снова выпал из реальности. Под странным меняющимся взором Крис это было легко и даже приятно. Рыхлый отечный со сна Симон сжимал в кулаке запечатанную чекушку водки. Еще одна игриво выглядывала из кармана застиранных треников. Рыжие вихры делали Симона похожим на поэта, а гнилозубая улыбка – на жертву цинги. Хлопнув меня по плечу, он не разуваясь прошел в комнату. Я невольно сравнивал его привычное хамство с крысиной осторожностью Гвоздя.
– Ох, ебатьтявсраку! – восхищенно завернул Симон.
Забыв поставить бутылки на стол, он замер, держа их, словно гранаты. Портрет Крис приковал его взгляд.
– Ты ее видишь? – спросил я.
– Ну блядь, не слепой же! – хохотнул Симон. – А я думал, ты пиздишь, что художник! Мы с тобой уже года три знакомы, а ты ж даже цветочек занюханный не нарисовал! Мог бы, блядь, кореша-то намалевать!
– Слышь, Сём… – Я указал пальцем на язык Гвоздя. – А это… тоже видишь?
Подслеповатые глазки Симона прищурились.
– Охтыж, ебанарот! – выдохнул он. – Настоящий, что ли?
Он наклонился пониже, разглядывая страшноватую находку. Я выдохнул долго и протяжно. Все-таки я не ебанулся. Все взаправду. Иначе куда я дел остального Гвоздя? Не сожрал же я его, в самом деле?! Крис побывала здесь. А я побывал там. И это все меняло. Я осторожно потянул из-за пояса спрятанный за спиной молоток.
– Сёма, а помнишь, ты у меня мольберт спиздил?
– А? – Симон поднял на меня непонимающие глаза.
– Хуй на! – выдохнул я, с размаху опуская молоток на его череп.
Узкая часть бойка проломила кость, чавкнула сыто и вышла обратно. На перепачканный кровью и мозгом черный металл налипли огненно-рыжие волоски. Сдавлено хрюкнув, Симон закатил зрачки. Столик затрещал под его тушей, с трудом выдерживая вес. Я схватил Симона за патлы, оттянул и принялся методично превращать его голову в месиво.
«Чувк-чавк, чувк-чавк», – весело напевал молоток. Хруп – сломалась височная кость. Хруп – треснула челюсть. Зубы крошились с каким-то непередаваемым звуком. Кровавые брызги летели во все стороны. Я будто ебаную отбивную готовил! Череп Симона сдувался, из округлой луны превращаясь в полумесяц.
Когда я закончил, устало отвалившись на диван, голова Симона напоминала глубокую миску с густым супом из мозга, крови и костей. Я устало вытер лицо пятерней. Какой там, нахуй, вытер?! Размазал больше…
Как же давно я хотел это сделать! Этот пидор года полтора назад спиздил мой мольберт, пока я переживал приход. Ебаная крыса! Я с мстительным наслаждением врезал мертвому Симону по жирной шее. Молоток спружинил, вырвался из руки и упал на пол. Да и хуй с ним!
На подрагивающих ногах я подошел к портрету моей музы. Окровавленными пальцами провел по губам, сделал тени глубже, сочнее. Вот оно! Вот! Я счастливо расхохотался.
Как ты там сказала? Живи, чтоб чертям было тошно? Делай, что нравится, как можно чаще? Так и поступлю, Крис! Так и поступлю, милая!
Я слезу с наркоты. Наверное, не полностью, а так, чтобы обойтись без ломки, если придется резко бросать. Что-то подсказывает мне, что в аду с веществами туговато.
Я наберу массу. Научусь убивать голыми руками. Натренируюсь в беге по лестницам. Ебаные лестницы, блядь… И зубы. Пожалуй, подпилю зубы, как у той бабы.
Я приду в ад подготовленным. Я приду за тобой, Крис.
Кровавый суп в черепной чаше плескался, когда я щедро черпал его ладонью. Новые мазки ложились на стену, ставшую холстом. Крис оживала.
Александр Подольский
Слякоть
Лес наползал на деревню со всех сторон. Серо-черный, костлявый, будто пораженный болезнью. Редкие всполохи рыжеватой листвы пропадали в тусклом переплетении стволов и веток. Над деревьями, словно хлопья пепла над костром, галдящей тучей кружили птицы. Их кто-то спугнул.
Лес был живым, хитрым. Он простирался на многие километры вокруг и защищал собственные владения непроходимыми болотами и зарослями вековых деревьев. Кровеносными сосудами его тушу пересекали спрятанные в траве дороги. Одни заманивали в никуда, другие, если повезет, могли привести в самую чащу, где когда-то неведомый великан-создатель разбросал пригоршню крохотных деревень.