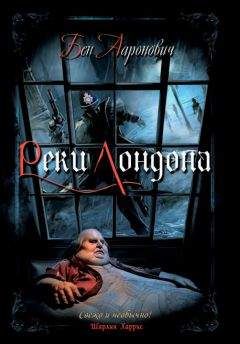По громкой связи объявили, что второе отделение начнется через три минуты.
Внизу, в баре, какой-то тип в твидовом пиджаке с кожаными заплатами ударил одного из своих собеседников. Кто-то закричал. Лесли, перегнувшись через парапет, смотрела вниз. Я бросился бежать по балкону, расталкивая с дороги людей. Глянул на Лесли — она, изумленно раскрыв рот, смотрела, как я заворачиваю за угол и мчусь по короткой части балкона, нависшей над залом по его ширине. Кто бы ни управлял сейчас ее сознанием, Генри Пайк или же она сама, — он не ожидал, что я ломанусь вперед сквозь толпу богатеев, бесцеремонно их распихивая. Как раз на это я и рассчитывал. Когда прорываешься сквозь тесные ряды возмущенных поклонников оперы, бывает очень нелегко одновременно нащупать во внутреннем кармане шприц с транквилизатором. Но мне каким-то образом удалось это сделать аккурат перед последним поворотом. Я повернул и бросился прямо к Лесли.
Она смотрела на меня, склонив голову набок, — спокойная и веселая, а я думал: ты можешь быть сколь угодно обаятельной, дорогая, все равно очень скоро крепко уснешь. Зрители теперь сами убирались с моего пути, поэтому последние пять метров я пролетел совершенно свободно. Точнее, пролетел бы, не поднимись инспектор Сивелл по лестнице и не ударь меня со всего размаху по лицу. Ощущение было такое, будто я с разбегу налетел на низко посаженную потолочную балку. Хлопнулся на спину, и несколько секунд белый свод потолка плыл и колебался у меня перед глазами.
Черт возьми, этот человек таки может двигаться быстро, если захочет!
Очевидно, Генри Пайк способен, находясь в сознании одного человека, воздействовать и на других. Что в моей ситуации было крайне невыгодно.
— Честно — мне плевать, — рявкнула какая-то тетка справа от меня. — Чертовы мужики поют о чертовых мужиках, только и всего.
Голос в динамиках объявил, что антракт закончится меньше чем через минуту, и пригласил зрителей вернуться в зал на свои места. Молодой человек в форме официанта с легким румынским акцентом попросил меня оставаться на месте до прибытия полиции, которую он вызвал.
— Я сам из полиции, придурок, — огрызнулся я, но получилось не вполне членораздельно — челюсть, судя по ощущениям, отваливалась. Я достал удостоверение и помахал им перед носом официанта. И он — рассказывать, так уж честно — даже помог мне подняться. Бар опустел — только уборщики протирали столы и полы. Я ощупал лицо. Зубы были на месте, стало быть, Сивелл врезал мне просто для галочки. Я спросил служащих бара, куда подевался высокий человек, и они ответили, что он отправился вниз вместе со светловолосой женщиной.
— В зрительный зал? — переспросил я, но они сказали, что не знают.
Я бросился вниз по лестнице и остановился — передо мной была длинная мраморная стойка раздевалки. У Сивелла есть одна положительная черта — его трудно не заметить в толпе и, увидев один раз, невозможно забыть. Капельдинер сообщил мне, что он направился в партер. Я вышел обратно в фойе, и там мне попыталась преградить путь приветливая юная леди. Я сказал ей, что хочу побеседовать с администратором. Как только она отправилась на его поиски, я проскользнул в зрительный зал.
Сначала меня оглушила музыка, накрыла мощной волной, усиленной масштабами зала. Зал имел форму огромной подковы; ряды кресел, обитых красным бархатом и отделанных позолотой, поднимались амфитеатром вверх. Впереди море людских голов простиралось до самой оркестровой ямы и сцены за ней. Декорации на сцене изображали корму плывущего корабля и были такого размера, что верхний край палубы возвышался над исполнителями. Все было оформлено в холодных тонах — голубом, сером, грязно-белом, ибо корабль держал путь через суровый океан. Музыка была столь же мрачная, но вполне прокатила бы при наличии ритм-секции или, на худой конец, девушки в мини-юбке на подтанцовке. Мужчины в военной форме и в треуголках пели, обращаясь друг к другу, а светловолосый молодой человек в белой рубашке смотрел на них глазами затравленного оленя. Я почему-то сразу заподозрил, что блондина и, соответственно, публику хеппи-энд отнюдь не ждет. Потом понял, что тенор поет партию капитана, а бас, исполняющий роль главного злодея, фальшивит. Сначала я решил, будто так надо по сюжету, но потом по недовольному шепоту зрителей понял, что вовсе нет. Бас попытался было исправиться, но оказалось, что не помнит текст либретто. Тенор принялся импровизировать, но внезапно сфальшивил сам и с выражением полнейшего отчаяния на лице обернулся к кулисам. Шепот зрителей перешел в ропот, который уже начинал перекрывать музыку. Музыканты только теперь поняли, что что-то не так, и прекратили играть.
Я направился вниз, через проход, к оркестровой яме, хотя представления не имел, как стану забираться на сцену. Несколько зрителей поднялись с мест и, вывернув шеи, пытались разглядеть, что происходит. Я подошел к самой оркестровой яме и глянул вниз — музыканты застыли на своих местах. Скрипач-солист стоял совсем рядом, я мог коснуться его, если бы протянул руку. Его трясло, и глаза как будто остекленели. Дирижер постучал палочкой по пюпитру, и музыканты заиграли снова. Мелодию я узнал сразу, с первой же ноты — это была первая песня, которую поет Панч в оригинальной постановке Пиччини. Старая французская песня «Мальбрук в поход собрался», в английском варианте — «Какой отличный малый».
Тенор-капитан запел первым:
Наш Панч был отличный малый,
Носил костюм желто-алый.
Бас и баритон вступили почти сразу. А за ними и вся труппа принялась петь, так слаженно, словно у всех перед глазами была распечатка текста.
С друзьями выпьет, бывало —
Такой уж он молодец.
Актеры принялись притопывать в такт. Зрители, казалось, приросли к креслам и, не отрываясь, смотрели на сцену. Я не мог понять, почему: то ли они в шоке, то ли это зрелище их загипнотизировало — или же просто до такой степени возмутило. А потом первые ряды захлопали в ладоши и затопали в такт музыке. Я и сам начал ощущать необъяснимое стремление хлопать и притопывать, почувствовал вдруг запах свежего пива и пирогов со свининой, желание позабыть обо всем на свете и пуститься в пляс.
С девицами хват был, ей-богу,
И жил на широкую ногу.
Один за одним следующие ряды тоже принимались хлопать и топать, шумовая волна покатилась от партера выше в зал. Акустика в нем была отличная — топот казался едва ли не громче, чем на стадионе в Хайбери,[47] и, как и там, толпа стремительно подхватывала его. Мне и самому пришлось сжать колени, чтобы подметки прекратили отбивать такт.