Две недели и дальше. Книга вторая.
Ночью темень, ночью тишь, ведьма, ведьма, где ты спишь? Лисий след ведет к норе… Где же твоя нора, ведьма? Оооо, твоя нора мне известна. В твоей норе – бархат и парча, в твоей норе – ковры из Султаната, хрусталь и золото на столе, шелковые скатерти, кружевные салфетки, батистовые платочки, серебряные канделябры, фарфоровые супницы, жемчуга россыпями, услужливые горничные, пуховые перины, стены, уставленные книжными шкафами – армии пыльных фолиантов в твоей библиотеке… В твоей спальне – огромное зеркало, а в зеркале отражаешься ты, во всей красоте и бесстыдстве… Смоляные волосы, синие глаза, алые губы… Только у ведьмы бывает такая красота. Жемчужная сетка на змеиных косах, золотые перстни на тоненьких пальчиках, бриллиант в форме капли на серебряной цепочке и маленькая родинка между правой и левой грудью – я знаю тебя всю, каждое пятнышко, каждый волосок на твоем совершенном и наглом теле! Такая юная, такая прекрасная, такая ненавистная тварь…
Я уничтожу это наваждение вместе с тобой. Когда твои вишневые губы лопнут под ударом тяжелого кулака; когда твои точеные ножки раздробят в Башмаках Правды; когда твою белую кожу иссекут железными прутьями; когда тебя, покалеченную, растоптанную, скулящую от страха и боли, воняющую мочой и сыростью, закованную в ржавые кандалы, от которых сходит кожа с запястий, повезут по главной улице на площадь; когда чернь будет улюлюкать и швырять в тебя тухлыми яйцами, дерьмом и камнями; когда тебя привяжут к столбу, обложат хворостом и сожгут под приветственные крики толпы – вот тогда я буду свободен. Я, Этьен Монблан, чувствую в себе Силу, которая сродни твоей, но эта Сила от Единого, а ты продала себя Тьме. И как Единый не позволил мне осквернить себя близостью с тобой, так я не оскверню себя твоей кровью. Я просто отдам тебя церкви, любовь моя, чтобы никогда больше не чувствовать на себе твою волшбу. Еще совсем немного времени… Еще совсем чуть-чуть… Ты крепко приворожила меня, но я смогу. Я взгляну на тебя еще раз, дам тебе последний шанс, а потом…
– Иефа, Иефа, слышишь? Эй, проснись! Иефа!
– Ночью темень, ночью тишь…
– Да ты бредишь, что ли? Ну, приди в себя! Это был сон, слышишь? Ты здесь?
– Да, Стив, спасибо. Это был сон. Просто сон.
– Что-то слишком уж часто тебе снятся "просто сны".
– Не бери в голову, Стив. Я посплю еще, ладно?
– Спи. Я разбужу, если что.
– Да, пожалуйста. Знаешь, Стив, эти сны не из приятных.
– Ясен пень. Спи, сил набирайся. Нам еще топать и топать.
– Я знаю, Стив. А все-таки не надо туда ходить. Вы мне не верите, а я чувствую… Нутром чую… Как зверь… Нельзя туда… Нельзя…
– Эх ты, пигалица…
Стив заботливо укрыл полуэльфку плащом. Иефа вздохнула во сне, страдальчески нахмурила брови. Даже при свете костра было видно, какое бледное у нее лицо и какие глубокие синие тени залегли под глазами. Стив покачал головой. Иногда ему казалось, что нужно было все-таки послушать барда и плюнуть на странную вырубку, на мертвых лесорубов и северное направление, но все как-то сложилось… Одно к одному. Зулин был очень убедителен, но пока не напали гибберлинги, оставалось еще маленькое, просто-таки малюсенькое зернышко сомнения. А Стив терпеть не мог незавершенности. И кто знает, может, если бы не этот чертов медальон с литерой V, снятый с мохнатой крепкой шеи мертвого гибберлинга, может, Стив бы и прислушался к тоненькому протестующему голосу. Но находка решила все. Зулин с торжествующим видом потрясал медальоном, аккуратно держа его за шнурок, и восклицал: "Я же говорил! Я же говорил! С севера!" С окровавленным ножом в одной руке и медальоном в другой, планар производил тягостное впечатление. Стив все время вспоминал, как легко и равнодушно Зулин перерезал горло беспомощному гибберлингу, и не мог понять. Нет, все ясно, враг – он и есть враг, в бою врага надо уничтожать, но беспомощного… В ответ на тихое ворчание дварфа Зулин беспечно махнул рукой и заявил, что зло подлежит ликвидации, что гибберлинг был явным злом, а следовательно… Иефа сидела на земле и смотрела на мага несчастными глазами, а Ааронн крутился вокруг нее, промывая и перевязывая раны от укусов и многочисленные царапины. При мысли о том, что полуэльфка, хоть и пряталась за его спиной, пострадала больше всех, Стиву становилось так стыдно, что хоть плачь. Вдобавок, собирая свои пожитки по всему лагерю, Стив наткнулся на безнадежно разбитую лютню и окончательно расстроился. "Нет, ну почему именно я?" – думал он, вручая исковерканный инструмент барду. Иефа только судорожно вздохнула и ничего не сказала.
Потихоньку темнело, Зулин скомандовал перенести лагерь на пару полян севернее и лихо распределил дежурства. Ему даже не возражали. Иефа баюкала изорванную руку, Ааронн хмуро сортировал перемешанные и растоптанные травы. Стив тогда еще поинтересовался, не заметил ли господин начальник, что Иефу здорово потрепали и что дежурить она вряд ли сможет? Пусть вылечится – удивился Зулин – она же умеет, как выяснилось. Иефа покосилась на убитую лютню и закусила губу, и тогда обычно невозмутимый Ааронн взорвался. Он подлетел к магу вплотную и заговорил ровным, звенящим от ярости голосом, и взглядом буравил, и наступал, глядя сверху вниз, и грудью ошалевшего мага подталкивал. Стив услышал много нового о методах магического врачевания, о стихийной и выработанной магии, о магии небоевой, но в бою применимой, о расходе энергии и бережном отношении к носителям оной, и понял так, что Иефа как раз таковой и является – стихийной, необученной, не боевой, но в бою применимой. А главное – сказал Ааронн, уже почти перейдя на шипение – главное, что он, Зулин, маг средненький, раз не попытался разобраться в способностях барда, а руководитель и вовсе никудышный, дальше своего носа не видит и в проблемы подчиненных не вникает, и что Иефа ближайшие пару часов даже синяк простенький залечить не сможет, а благодаря ей, между прочим, трое из двадцати на тот свет отправились, и в бою она, вопреки ожиданиям, не мешала, не отвлекала, а помогала только, и он, Зулин, должен ценить, что помимо барда в партии появился еще один целитель и еще один почти боец. И вообще Иефу беречь, как зеницу ока надо, а он вместо этого…
Зулин отступал мелкими шажками, растерянно глядя на эльфа, и неизвестно, чем бы все это закончилось, но Иефа с трудом поднялась на ноги и зашвырнула лютню далеко в кусты, да еще и выругалась – грязно и громко, и все замолчали. "Идемте уже отсюда – сказала полуэльфка и ухватила за лямки свой рюкзак. – Очень уж здесь противно".
И они пошли. Отыскали поляну поменьше и поуютней, костер развели, похлебку какую-то сварганили… Первым дежурил Ааронн, потом Зулин, потом Стив, потом… Потом дварф решил про себя, что пусть уж она поспит, а вот теперь и не знал уже, стоило ли… Иефа ворочалась и металась, говорила странным голосом непонятные фразы, вскрикивала… Стив будил, она смотрела сонными непонимающими глазами, вздыхала, благодарила, засыпала и все повторялось снова. От этой неизбежной последовательности становилось сильно не по себе. Дело ведь даже не в снах – можно подумать, Стиву никогда не снились кошмары! Снились, и еще как! – да, дело даже не в снах. А дело в том, что эти сны – почти явь. Вопреки своей прагматичности Стив понимал, что сейчас, вот прямо в эту секунду, нет для полуэльфки ничего более реального, чем эти видения. Они могут не только напугать. Они могут убить. И Стив ежился, всматриваясь в тоскливую морщинку между светлых бардовских бровей, и гадал, с кем же она воюет сейчас где-то там, где он вряд ли когда-нибудь окажется…
Какие холодные стены, братик, какие здесь холодные стены… Соберись, Элена, не раскисай, нельзя. Этого не может быть. Не со мной. С кем угодно, но только не со мной. Это сон. Я сплю сама или снюсь кому-то, но это сон. Так не бывает. Дочь герцога не могут бросить в яму. Просто не могут – и все. Я, Элена де Виль, дочь герцога, а значит это сон. Просто кошмарный сон, я скоро проснусь, Лиза принесет горячий шоколад и воду в серебряном кувшине, я этот кувшин обязательно запущу ей в голову, потому что вода будет недостаточно горячей… Или недостаточно холодной, это не важно, но наглая деваха будет ползать по полу, раскорячив зад, и собирать воду тряпкой, а я буду сидеть на кровати, пить шоколад и пинать ее носком туфли в мягкое место, и еще расскажу ей, что так теперь будет всегда, каждое утро, если, конечно, она не перестанет бросать пылкие взгляды в сторону моего брата. Тупая корова! Не ее крестьянским телесам греть Себу постель! Я ей устрою… Я ее… Боже, но как же здесь холодно! Дайте хоть что-нибудь, хоть какое-то одеяло, я не выношу эту сырость, она вгрызается в мои кости, гложет суставы, я мерзну! Я, Элена де Виль, мерзну на дне вонючего, сырого и темного каменного мешка! Бред! Это какая-то ошибка, какая-то чудовищная ошибка…Меня перепутали с кем-то. Хотя, нет, это тоже абсурд. Как можно меня – Меня! – с кем-то перепутать. И все-таки… Нет, вы еще попляшете, недоумки! Мой отец покажет вам, что значит немилость первого вельможи Железной империи! Мой брат по камешку разнесет эту башню, а вас… Вас… Я точно знаю, что вот сейчас, конечно, вот уже сейчас меня хватились дома и рыщут по всей округе, расспрашивают каждого встречного, вот, я просто вижу, как они врываются в ваши жалкие канцелярии, круша двери и переворачивая столы, а вы, мерзкие крысы в коричневых камзолах, дрожите и кланяетесь, потому что к вам пришли Власть и Деньги! Я знаю, еще несколько мгновений – и загремят засовы, распахнется дверь, Себ бурей ворвется в эту гнусную дыру, подхватит меня на руки, укутает в свой бархатный плащ и вынесет на свет божий, под яркое солнце, братик, братик любимый… А потом вы до конца жизни своей будете жалеть, что прикоснулись ко мне. Я… Только бы согреться немного.
![Александра Лосева - Две недели и дальше. Плохая вода. [Книга вторая]](https://cdn.my-library.info/books/no-image.jpg)

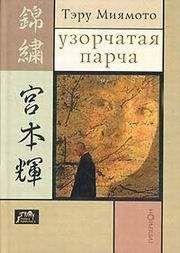
![Роберт Сальваторе - Серебряные стрелы [Серебряные потоки]](https://cdn.my-library.info/books/63242/63242.jpg)
